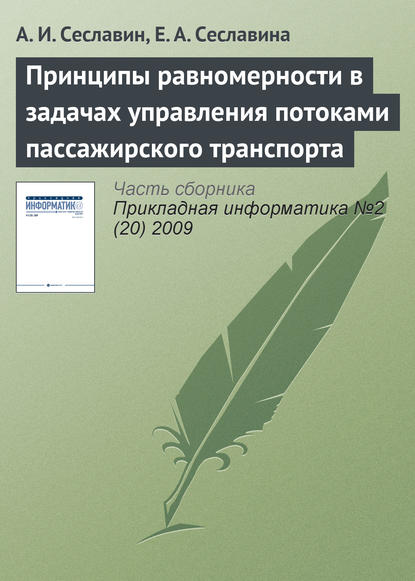- -
- 100%
- +
− А отказаться нельзя? На старом-то месте спокойнее…
− Зачем отказаться? Не надо. Хорошая должность. Да, Мусик? Дура баба. Ничего не понимает.
Кот проглотил колбасу и снова глядел на хозяина. Григорий Павлович отрезал еще один кусок.
Жена пошла наверх переодеваться.
− Опять окно открыто, мухи летят, – ворчала она.
− Дура баба, – ласково глядя на кота, проговорил Григорий Павлович.
− Ни зимой, ни летом окно не закрывается, – продолжала жена, – Мусик все твой! Может, вообще раму выставить? Пусть ходит кот, когда захочется. Целый день только и слышно: Мусик да Мусик! Ты о детях так не заботишься, как о коте своем…
− Завелась маманя наша… Слышишь, Мусик? Дура баба.
* * *
На следующий день Григорий Павлович поехал на новое место работы.
В пожарной части почти никого не было. Пустые гаражи, на территории тоже никого.
− А где все? – поинтересовался Григорий Павлович у дежурного.
− Вы по какому вопросу? – недовольно проговорил потный, полураздетый, утомленный жарой дежурный. Он сидел, направив на себя вентилятор и листая какой-то журнал.
− Я ваш новый начальник.
Дежурный подпрыгнул.
− На объекте все… На болотах.
− Ясно. А как туда добраться?
− Андрюха обед повезет.. Можно с ним.
− Позвони ему, скажи, чтоб меня взял. Поеду, погляжу, что там творится.
В душном салоне УАЗика тряслись примерно два часа. Ехали по лесным узким дорожкам, спускались в овражки, заросшие мелким путанным кустарником, потом снова взбирались к соснам. Навстречу пару раз попадались пожарные машины. Все сильнее пахло горелым торфом, все больше было вокруг дыма.
Наконец выехали на поляну, где среди смога в примятых кустах стояли несколько пожарных машин, тарахтела мотопомпа и повсюду вились пожарные рукава. Вдалеке виднелись несколько фигур. Завидев подъехавшую машину, они стали подходить.
− Здравствуйте, я новый начальник, – сказал Григорий Павлович.
− А, слыхали, слыхали. Первый день – да в самый жар?
− Надо ознакомиться с обстановкой…
Невдалеке из-за кустов показался вездеход. За ним автомобиль ГАЗ-66. И тот, и другой были просто-таки обвешаны людьми. Они сидели по бортам, словно солдаты на танковой броне, готовые в любую секунду спрыгнуть и вступить в бой. В кабине находился только водитель. Двери машины были широко открыты и привязаны проволокой, чтоб не захлопнулись. Такие предосторожности нужны на случай, если машина вдруг провалится в прогоревший грунт (прогар). От долгого горения торфа под землей образуются пустоты, температура в них сохраняется высокая, и провалившийся туда человек обречен.
Вездеход и ГАЗик поъехали и остановились.
− Ну, что там? – стали спрашивать прибывших.
− Хреново, – только и ответили они.
Пожарные сошли на землю, стали собираться на обед. Были они все полураздеты, на пропотевших спинах и плечах многими слоями налипла грязь. Они не стали умываться, а, тяжело опустившись на землю, похватали свои порции и приступили к еде.
− Вот, начальник новый прибыл… – сказал водитель Андрюха.
− Здравствуйте, – закивали, не поднимаясь с земли, пожарные. Один, невысокий, черный, похожий на кавказца, встал, подошел к Григорию Павловичу.
− Началник караула Анджапаридзе, – представился он.
Григорий Павлович пожал ему руку. И тут же его опахнуло алкогольным перегаром. Григорий Павлович пробежался взглядом по остальным: так и есть, все пьяны. Никакого сомнения. Он отвел Анджапаридзе в сторону.
− Мне показалось, – начал осторожно Григорий Павлович, – что все люди в вашей команде пьяны. Анджапаридзе пожал плечами:
− Випили, канечна, немного.
− Как же это – «выпили, конечно»… – возмутился, хотя продолжал говорить вполголоса, Григорий Павлович.
− Работа трудная…
Григорий Павлович хмыкнул и пошел обратно к обедавшим пожарным. Те разливали что-то по чашкам, но при начальнике попрятали.
− Та-а-а-к… – проговорил Григорий Павлович, – Пьяные, да еще и продолжаем пить?!
Некоторые засмущались, уткнулись в свою тарелку, другие, наоборот, перестали прятаться и открыто осушали свои чашки.
− Что же это такое! Что за порядки здесь сложились?
− Да все нормально, начальник… – произнес кто-то негромко.
− Нормально? Пьянство на службе – нормально? – крикнул Григорий Павлович.
− Нэ надо, нэ надо ругаться, все будэт нармално, – говорил Анджапаридзе.
− Да как это «не надо»?! Как «не надо»? Вы понимаете, что совершаете должностное преступление?
− Я всо панимаю.
− А раз понимаете, тогда прекращаем работу и…
Анджапаридзе не дал Григорию Павловичу договорить, взял его за рукав и потянул в сторону. «Отойдем, отойдем, началник», – шептал он. Они отошли метров на пятьдесят.
− Сющай мене, началник. – Анджапаридзе поглядел дерзко и вызывающе, – Ты здэсь первий дэнь. Нэ надо горячиться.
− Да что это такое! – попытался вырваться Григорий Павлович, но Анджапаридзе его держал.
− Стой, стой. Сющай мене, началник. Эти ребята каждый дэнь собой рискуют. Ты видел, что творится там, на болоте? Ты схади, пасматри. Это ад. И они доброволно в этот ад лэзут. И если ты будэшь мешат, то лэзь туда сам и туши сам. Я сейчас вэрнусь к рэбятам и скажу, что ты ругалься нэ со зла. А ты езжай отсюда и сиди в своем кабинэте. Много я уже таких началников видэл. Все кричали. И гдэ они? А я как был, так и остаюсь.
Анджапаридзе оставил рукав Григория Павловича и пошел. Вся толпа тут же поднялась, моторы завелись, и люди запрыгнули на машины и повисли на бортах.
* * *
Григорий Павлович вернулся с работы хмурый. Кот ластился к нему, терся о ногу, но хозяин его не замечал.
− Что с тобой? – спросила жена.
− Ничего. Все в порядке. Устал. Пожары эти, болота…
На следующий день все было так же. Григорий Павлович никого не видел, ходил подавленный. Жена присматривалась к нему, несколько раз пыталась разговорить, но тот лишь отвечал: «Все в порядке».
− Мусика бы своего хоть покормил…
− Ну, дай ему чего-нибудь…
Так продолжалось целую неделю. Утром Григорий Павлович шел на работу, сухо попрощавшись. Вечером приходил, садился ужинать. Потом включал свои «Диалоги о рыбалке» и лежал на диване. Только однажды он, не отрывая мертвого взгляда от экрана спросил:
− Ты знаешь такого Анджапаридзе? Где-то тут, в нашем районе, живет.
− Знаю, – ответила она, – через две улицы от нас. Домик маленький, старый. Зеленый такой, вокруг сосенки, знаешь? Вдвоем с женой живут. Дети все взрослые, поразъехались. А зачем тебе?
− Так… Встречал…
− Что тебя мучает в последнее время? – в очередной раз пыталась выспросить жена.
− Да все в порядке, что ты пристаешь!
− Не в порядке. Я же вижу: что-то в тебе происходит. Что-то тебя мучает. Ты будто выгораешь весь изнутри.
− Все в порядке, – спокойно повторял Григорий Павлович.
Минул июль, ушла жара, на остывающей земле появились первые признаки осени. Но жар внутри Григория Павловича не остывал. В середине августа он заявил жене, что решил вернуться на прежнюю работу. Та одобрила его решение и обрадовалась, потому что видела причину всех этих внутренних нестроений мужа в новой его должности.
К сожалению, возврат на прежнюю работу не помог вернуться к прежнему образу жизни: Григорий Павлович все так же ходил подавленный, молчаливый, и никто, даже Мусик, не могли порадовать его.
Ночью Григорий Павлович стал часто вставать. Он уходил на кухню, курил, мигая в темноте огоньком сигареты, долго смотрел в окно на постепенно светлеющее осеннее небо. А однажды, уже совсем под утро, собрался и куда-то вышел из дому.
От стука двери жена проснулась, спустилась на кухню. Примерно час его не было, но вот дверь снова стукнула, Григорий Павлович вошел, пропустил кота.
− Заходи, заходи, Мусик, – ласково говорил он, – Хочешь кушать? Сейчас, сейчас мы посмотрим, что там есть в холодильнике. Пойдем…
Григорий Павлович открыл холодильник, достал колбасу, отрезал кусок себе и Мусику. Сев возле окна, он с удовольствием принялся жевать бутерброд.
Жена подошла к нему, села рядом. От него отчетливо пахло бензином. Сам он благодушно улыбался.
– Что ты сделал, Григорий? – прошептала испуганная жена. Тот не отвечал и, жадно упихивая в рот колбасу, улыбался.
Жена схватила его за рубашку и, глядя в глаза, взволнованно заговорила:
−Что? Что ты сделал? Григорий! Отвечай, что ты сделал?! Куда ты ходил?
Григорий Павлович снова улыбнулся и спокойно ответил:
− Да все в порядке, чего ты разволновалась…
Попутчики
Я представлял Петербург городом мрачным и дождливым: так помнил я из книг и фильмов. Но Питер встретил меня совсем по-другому: над городом летели быстрые, пухлые облака, солнечный свет перебегал с одной стороны проспекта на другую, и пестрые рекламные растяжки, как белье на веревке, трепыхались от теплого настойчивого ветерка.
Я погулял по Невскому, по Дворцовой площади, постоял на набережной, но долго бродить уже не было сил: в последние дни я почти не спал, ночуя на вокзалах и в электричках. Очень хотелось лечь и долго-долго не просыпаться. И еще бы поесть чего-нибудь сытного и горячего.
«Вот куплю сейчас билет, и на оставшиеся деньги пообедаю», – размышлял я, когда ехал на вокзал.
– До В…сколько билет стоит? – спросил я, подойдя к кассе, – Мне бы самый дешевый. И можно без белья… Так дорого?… Подешевле нет?
– Сколько у вас денег, молодой человек? – спросила женщина в окошке. Я ответил, покраснев.
– Самый дешевый поезд – казахстанский. У вас хватает только до станции Б….
– Давайте, – кивнул я. «Авось как-нибудь обойдется, – решил я, – А сейчас бы только поспать».
Два часа до поезда я зевая бродил возле вокзала, на сдачу с билета смог купить только две сосиски и пирожок.
Наконец подошел поезд – старый, невзрачный, с темно-зелеными обветшалыми вагонами. Я нашел свою боковушку, и тут же меня неудержимо начало клонить в сон.
– Билетик ваш… – тронула меня за плечо проводница. Вагон был уже полон, поезд набирал ход. Было много казахов, несколько русских и трое вроде бы кавказцев. Я показал билет и, расстелив спальник вместо матраса, снова заснул.
Меня всю жизнь тянуло куда-то уехать. То в Москву, то на север, то на Ямал, то в Сибирь. Я мечтал всегда размашисто, рвал все связи, бросал работу и ехал куда глаза глядят. Но спустя какое-то время непременно возвращался в свой пригород, словно не мог преодолеть какой-то силы. Как в голливудском фильме «Изгой» у героя никак не получалось вырваться с необитаемого острова, потому что волна океанского прибоя относила его обратно, так и у меня, куда бы не уехал, с какой бы яростью не рвался убежать от прежней жизни, волна обстоятельств возвращала меня восвояси. И я опять тащился в родные и ненавистные до боли места, размышлял о причинах того, почему очередной побег оказался неудачным, шел устраиваться на старое место, унижался, а сам мечтал о новой попытке убежать.
– Проснитесь, проснитесь… – трясла меня проводница, – Когда вам выходить?
Я подпрыгнул, огляделся.
– Когда выходите? – переспросила проводница. Говорила она с восточным акцентом.
– А какая сейчас будет станция?
Проводница растерянно улыбнулась, а потом сморщила лоб: будто вспоминает. Я понял, что она не знает. Видимо, новенькая, неопытная. Я решил этим воспользоваться.
– Моя дальше. Вы не беспокойтесь, я не пропущу.
Проводница кивнула и ушла. «Сколько прошло времени?» – размышлял я.
– У меня ссын… ссын у меня есть… Виття, – лепетал какой-то пьяный. Напротив него сидел казах, и по его усталому, опустившемуся лицу было заметно, что пьяница ему еже изрядно надоел.
– … избил меня Виття позавчера, – продолжал пьяный, – ни за что избил… единственный ссын… и другого уже не будет … Трактором меня переехало… пять лет уж как… И всё, – пьяный сделал «тпру» мокрыми отвисшими губами и развел руками, – теперь я в этом деле полный ноль. А Виття позавчера… Есть у тебя выпить чего-нибудь?
– Атстань! – выкрикивал казах.
Пьяница кивал, отворачивался, потом будто засыпал на несколько минут, клевал носом в стол, на какое-то время отключался от действительности, а потом, будто увидел всех впервые, поднимал голову и начинал сызнова свой рассказ про сына и трактор.
– Заткнись! – кричали чуть не хором в одном краю.
– Атстань! – взвизгивал казах.
Подъехали к какому-то маленькому поселку. Деревянные домишки, разбитая дорога, вдалеке серый, ломаный ураганом лес. Деревянное здание вокзала. Именно до этой станции у меня был билет.
На нижней полке, рядом с пьяным, сидел старичок, скромно сложив руки на коленях. Изредка поглядывая на пьяницу, он улыбался и молчал.
– Виття… ссын мой единственный… – бубнил пьяный.
– А у меня четыре сына. И три дочери, – вдруг заговорил старичок, – К младшему еду. Внучка родилась. Девятая. И еще семь внуков есть. И правнуков пятеро.
– Да? Правда? Какая у вас большая хорошая семья! – заговорили попутчики. Старичок обрадовался, что на него обратили внимание, и продолжил:
– Да, семерых детей мы со старухой подняли. Хоть жись-то и не больно сладкая была. После войны такой голод был… Не приведи Господь…
– А в войну как, дедушка?
– Так в войну-то я на войне был, – ухмыльнулся старичок, – Как уж Варька одна там с тремя оправлялась – не знаю. В письмах писала, что ладно все и добро. Воюй, мол, за нас не переживай.
– А где вы, дедушка, воевали?
– Много где… Прошел от Москвы до Калининграда… Артиллеристом был. Целую неделю, помню, лупили мы этот Кенигсберг. Такая крепость была! Три кольца обороны! Там и закончил я войну. Нда… С фронта пришел, помню, а ребятишки уж большие, отца не узнают, щечки дуют, отворачиваются. Но потом ничего, привыкли. И уж не отставали. Мамка не интересна стала – все со мной. А потом и Мишка, четвертый наш, появился. А потом Верка, Надька, Ивашка. Вот так и прожили. Нда… Теперь уж можно и помирать… Старуха моя с полгода уж как слегла. Не встает. Вот уж не думал, что на старости лет придется мне за ней ухаживать. Думал – она за мной станет ходить. Ведь на десять лет она меня моложе. А вона вышло как! Нда… А я за всю жись, почитай, ничем и не болел. Ну, токо если простуда какая. И то редко. И таблеток никаких не ел сроду. А тут на днях съел одну… И какого черта меня дернуло ее взять? Как начало меня крутить! Вывернуло совсем. Пошел к врачу. Вот ведь дурь! В жись не ходил, а тут пошел… И врач этот дал мне лекарств каких-то и на месяц водку пить запретил. Вот и ходи к ним!
Старик вздохнул и глянул еще раз на пьяного.
– А вот у меня случай был, – заговорил с верхней полки мужичок лет сорока, небольшой, аккуратный, чистенький, хоть и одетый невзрачно. Головка маленькая, волосики жидкие. Ему было довольно просторно наверху, он положил ногу на ногу и болтал беленьким носочком. Он, видимо, уже давно пытался рассказать что-то, но пьяный постоянно мешал.
А пьяный в этот момент как раз зашевелился, очнувшись от полусна, сознание его вновь перезагрузилось, и он опять пересказал свою историю про единственного сына Витю и свою импотенцию.
– Атстань! – в очередной раз крикнул казах.
– Держите себя в руках, раз выпили… – проговорил Чистенький.
Я поднялся, свернул свой мешок.
– Слущай, – обратился тут же ко мне высокий седоватый кавказец, – Разреши, друг, мы на твоем столике поедим. А то там этот пьяный…
Я поднял столешницу, кавказец сел напротив, еще двое его знакомых пришли откуда-то с другого конца вагона и устроились рядом; на стол они выложили целый ворох каких-то трав, специй и пряностей, две вареные курицы, красного стручкового перца, пакет тонких лавашей, выставили бутылку водки. Оторвав от курицы кусок, они добавляли к нему зелени, потом туго-туго обвивали лавашом и ели, осторожно прикусывая перцем.
– Угощайся, друг, – сказал мне седовласый кавказец. Я был жутко голоден и, поскромничав немного, присоединился к трапезе.
– Меня Азат зовут, а это, – он указал на своих друзей, – Кади и Манук.
Я представился.
–Вот, бери, кушай. Здесь тархун, базилик, кинза, лук, – объяснил Азат. Он назвал еще какие-то травы, но я не расслышал.
– С перцем аккуратнее, – предупредил Манук, – очень острый.
Южная пища мне понравилась, я с удовольствием съел несколько таких сверточков с курицей. В конце новые знакомые предложили водки, я отказывался, но все же, поддавшись уговорам и не желая обижать попутчиков, одну стопку выпить согласился. В животе потеплело, стало приятно в голове и не так одиноко на душе.
Кавказцы тоже размякли, покраснели.
– Мы из Питера едем. Работали там, – сказал Азат. Я был не против пообщаться. Так уж принято в поездах: если оказались рядом – надо чуть-чуть познакомиться. Потому что ненадолго стали почти что родственниками.
– Ну и как вам Питер?
– А, слущай! Хорошо, только эти белые ночи… Никак уснуть не могли. Одеялом окно завешивали, на глаза повязку надевали – ничего не помогает. Совсем не ночь.
– А сейчас вы куда?
– Сначала в Челябинск, дела там кой-какие, потом в Архангельск поедем, работать будем. Вот Манук там работал, говорит – хорошо. И нас зовет.
– Так ведь там белые ночи еще дольше.
– Как? – встрепенулся Азат, – Тоже белые ночи?
– Конечно. Это же север.
– Ай! Кошмар!
– Не беспокойся, – вступил Манук, – работу закончим до белых ночей.
У пьяного в очередной раз сознание пропало и опять включилось. Он снова заговорил про сына Виттю. Народ загудел, все уже сильно устали от пьяницы, кто-то предлагал сдать его на следующей станции в полицию. Ворчали, косили недовольный взгляд. Казах, которому не повезло ехать рядом, стонал: «Атстань».
– …ссын мой Виття избил меня позавчера, – не обращая ни на кого внимания, бормотал пьяный, – Единственный ссын… Другого не будет уже… Трактором меня переехало…
Чистенький с верхней полки цокал и говорил:
– До какого же свинского состояния может себя человек довести! Нда-а-а…
Подошла проводница, обратилась ко мне:
– Вы когда выходите?
Я и забыл совсем, что еду «зайцем».
– На следующей выхожу, – не зная станции, ляпнул я. Очень было неловко. Проводница ушла.
– Какая сейчас станция была? – тихо спросил я у Азата.
– Не знаю, – ответил тот, – Надо у кого-нибудь другого спросить. Эй, скажите, какая сейчас станция была?
Я похолодел. Сейчас меня вычислят, при всех оштрафуют, высадят и еще чего-нибудь похуже…
– Станция В…, – раздалось с разных сторон.
– А, ну тогда все верно, – нарочито громко произнес я. – Значит, действительно, моя следующая. – И медленно, как бы нехотя, начал упаковывать спальный мешок, укладывать вещи в сумку.
Начал собираться и пьяница. В вагоне при виде этого повеселели, казах выдохнул с облегчением. Пьяница сдернул с верхней полки рюкзак, стал натягивать куртку.
– Вылезай же, вылезай… Вот сюда сядь! Алкаш! – ворчали на него и подталкивали. Он выбрался из-за стола, присел на краю, прямо напротив меня.
– Нажрался как зюзьмо, – заметил кто-то из-за моей спины.
За окном мелькали деревья, поля. Сколько до следующей станции, я не знал.
– У меня ссын… – заговорил, дыша на меня перегаром, пьяный.
– Знаю, знаю, – кивнул я, – сына зовут Витя. Он позавчера избил тебя, подлец. Единственный твой сын. Другого не будет, потому что трактором тебя переехало.
Пьяный вскинул изумленный взгляд, побледнел, челюсть его опала, и он прошептал:
– А ты откуда знаешь?
До самой станции пьяный с испугом и удивлением смотрел на меня и молчал, прижимая свой рюкзак. Когда поезд начал тормозить, пьяница вскочил и, шатаясь, наступая на ноги, стал продираться к выходу.
Я вышел на перрон. «Что ж, вроде город. Не полустанок какой-нибудь», – с радостью заметил я. Зашел в здание вокзала. «Что теперь делать?»
Вдруг отчаянно захотелось домой, в тишину и уют нелюбимого захолустья.
«Вот она, волна, отбрасывающая меня назад, – заметил я, – Не хватает сил ее преодолеть».
Помню в Москве, отработав несколько месяцев программистом, уволился и уехал домой, не в силах объяснить себе, в чем причина этого побега. Так же случилось, когда жил и работал на севере. Через год с небольшим оставил всё и убежал.
Почему мне везде так плохо? Может быть, причина во мне, а не в окружающем мире? Нет, такой самоуничижающий вывод я себе позволить не мог. И без того было тоскливо: чужой городишко, пустые карманы да еще и моросящий дождь…
Я прошелся по улицам того городка, выспросил у людей, куда идти, чтобы поймать попутку, и направился в указанном направлении. Выйдя из города, я остановился на трассе, но было уже поздно, близилась ночь, и я отошел от дороги к лесу и устроил себе ночлег под кустом.
Пытаясь заснуть, вспомнил детство, начальную школу. У меня было тогда много друзей, а одного из них, паренька по имени Саша, я считал лучшим другом. Каждое утро по дороге в школу я заходил к нему, чтобы дальше идти вместе, ждал, стоя у двери, пока он позавтракает, помоется, оденется. Я считал важным каждый день дождаться друга, хотя стояние у двери было не самым приятным времяпровождением.
После школы мы возвращались тоже вместе, потом шли на стадион играть в футбол или придумывали себе другие развлечения. Несколько лет мы были неразлучны, но в один из дней, когда я по давней привычке утром ждал его у дверей, он почему-то не захотел со мной говорить. Еще вчера мы вместе веселились, играли до позднего вечера, а сегодня утром он вел себя так, будто я его чем-то смертельно обидел. Когда мы вышли на улицу, то он стремительно пошагал вперед, стараясь меня оставить позади и по-прежнему ничего не говорил. Я не понимал причину такого поведения.
Во время одной из перемен мне передали от него записку: «После школы приходи на пустырь». Я так и сделал. Лишь только закончился последний урок, я побежал на поле, находившееся невдалеке от школы. Там мы часто ловили в канавах тритонов и головастиков, жгли костры и устраивали сражения на мечах. Вскоре показался и Саша. С ним был еще один наш друг.
Саша подошел ко мне и, не говоря ни слова, вдруг ударил, повалил на землю и стал пинать ногами. Я зажал голову и лежал на земле, страдая не столько от ударов, сыплющихся на меня, сколько от непонимания причин происходящего. Это было абсолютно необъяснимое, беспричинное, шокирующее поведение. Вчера лучший друг – сегодня без всякой на то причины пинает меня ногами. Что это?
«Не подходи ко мне больше никогда!» – процедил сквозь зубы Саша и, оставив меня лежать в траве и грязи, пошел своей дорогой.
Это событие морально сломило меня. Не жестокостью, потому что и раньше я участвовал в драках, когда были на то причины, но именно необъяснимостью, беспричинным предательством самой искренней, как мне казалось, дружбы. Но выходит, что для него я был просто одной из игрушек, которая вдруг надоела, и он решил ее сломать и выкинуть.
С того дня я стал другим. Я никому не верил, ни с кем не искал дружбы, чаще всего был один. И одноклассники не замедлили этим воспользоваться, выбрали меня
объектом для издевательств и насмешек. Я отвечал им молчаливым презрением.
В результате школа для меня стала мучением, я ходил туда отбывать срок. А когда закончил ее, то даже не пошел на выпускной. Да меня никто и не приглашал.
На долгие годы я стал яростным человеконенавистником. Ни с кем у меня не ладились отношения, да я и не искал их, не верил ни в дружбу, ни в любовь. Только такие же изгои, как и я сам, вызывали во мне какое-то доверие. Но даже их я держал на дистанции.
Алкоголь и блуждания стали для меня любимым времяпровождением, а одиночество и кипучая ненависть ко всему – обычным состоянием. Для людей я стал красной тряпкой, постоянным раздражителем, странным явлением. Чтобы объяснить себе мое поведение, они придумали, что я какой-то извращенец, с радостью поверили сами себе, передавали этот слух друг другу (в этом, как ни странно, особенно преуспели парни), и скоро он оброс правдоподобными деталями, укоренился и стал общепринятым мнением. Некоторые даже пытались проявить свое отношение ко мне с помощью рукоприкладства. Всё это еще более утверждало меня в моем человеконенавистничестве, льстило моему самолюбию, и я всё больше отдалялся от общества.
Всюду я видел подтверждение своим взглядам: не нужно далеко ходить, чтобы увидеть всю низменность и порок человеческого существования. Я читал книги, и там, конечно, находил необходимые мне примеры. В результате моим твердым убеждением стало то, что человек – это паразит на теле планеты, и если она захочет избавиться от него, то в этом не будет никакой трагедии, а только польза.
Я ездил по городам, смотрел на жизнь, на людей со сдержанным раздражением, с брезгливым любопытством наблюдал за движением мира, и боялся близко соприкоснуться с ним, чтобы он не ухватил меня и не понес, как эскалатор, куда-то вниз, где суета, беготня и вечный шум.