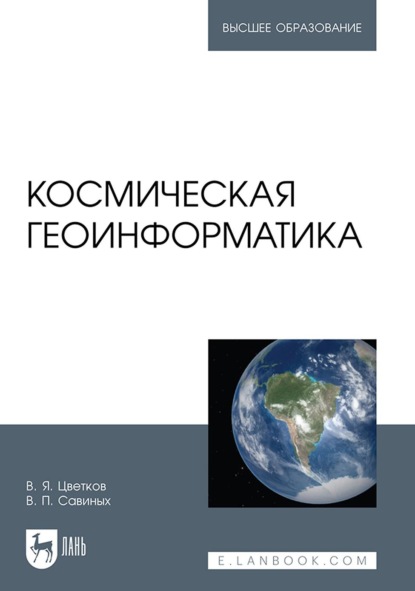- -
- 100%
- +

Будни – 1
Родился у мамы с папой сынишка. Захотели они узнать его судьбу. Пришли к гадалке и спрашивают – кем он будет? Та разложила на полу учебник по математике, игрушечный пистолет, бутылку водки и журнал «Плейбой». «А теперь пускайте его! Поползёт к книге – будет учёным, к пистолету – военным, к бутылке – выпивохой, к журналу – бабником». Пустили малыша, а тот пополз, пополз – да и хвать себе всё сразу! «Ну, тут без вариантов – он будет курсантом Можайки1!».
В город на Неве приходит новый день.
Сквозь чуткий утренний сон я слышу голоса дневальных из центрального отсека казармы. По-видимому, наступило время подъёма, и суточный наряд сгрудился у тумбочки, чтобы в означенную минуту пробудить однокурсников диким криком. Ну, так и есть:
Ку-урс, подъём! – орут, кажется, прямо в ухо – Тарзан отдыхает!
Неспокойно сопящая и поскрипывающая тишина спального расположения взрывается скрежетом кроватных пружин и чертыханьем – наши отделения поднимаются.
В проходах между рядами двухъярусных кроватей уже скачут самые шустрые, пытаясь быстро натянуть ушитые бриджи, кто-то шлёпает в казённых тапках из кирзы и резины к сушилке за сапогами, кто-то сразу направляется в туалет, зная, как нелегко будет потом достичь там желанного уединения.
«Кремни» продолжают лежать, натянув на головы синие шерстяные одеяла, в завидной уверенности, что на построение все равно успеют, а если не успеют – то их отсутствия не заметят, а если и заметят – вдруг как-нибудь да обойдётся.
Добрая половина моих относится именно к этой категории – резво вскакивать никто не спешит. Только Сашка Кураев, имеющий несчастье спать надо мной, сразу садится на край кровати, свесив сверху голые пятки. Да и то лишь потому, что опасается пинка снизу, которым я неминуемо его награжу, если слишком залежится.
Сейчас он, по всей видимости, мрачно взирает на сочащееся тусклым светом окно, всё в потёках дождя, и тихо материт себя за то, что поленился вчера сходить в санчасть за освобождением. От меня он пощады не ждёт и пытается примириться с неизбежным.
Вообще-то вылезать на улицу под нудный холодный дождь мне тоже не особо хочется, но я лицо должностное младший сержант и командир отделения. Поэтому отбрасываю одеяло с простынёй на спинку кровати и сиплым со сна голосом командую:
Кому сказано, подъём! – это всем.
Павленко, Раков, что непонятно?! – это конкретным, особо злостным личностям, чтобы поняли, что попали в поле моего зрения. Что, вообще говоря, чревато последствиями.
Теперь пинок ногой через сетку кровати в зад потерявшему бдительность Кураеву (побурчи там у меня!) – и подъём отделения завершён.
С глухим ропотом о неправедном устройстве мира, в котором водятся такие мудилы как я, боевые товарищи одеваются и выскакивают из расположения, заправляясь на ходу.
Курс, выходи строиться! Шире шаг на построение! Становись! – орут дневальные. Им весело смотреть на помятые подушками лица однокурсников.
Старшина Харламов недобрым взглядом провожает несущихся в строй опоздавших. Металлизированные старшинские полосы на погонах тусклым золотом отсвечивают в холодном люминесцентном свете центрального отсека.
Равняйсь! Отставить! Курсант Лосев, за опоздание в строй лишаю Вас очередного увольнения! – Харлам не знает пощады.
Не очень-то и хотелось, – огорчённо бормочет вполголоса Коля, пробираясь за строем курса к своему отделению.
Равняйсь! Смирно! Вариант зарядки номер четыре – кроссовая подготовка, форма одежды номер три2. Вольно!
Строй колышется, разноголосо понося дежурного по институту за то, что выставляет под дождь на улицу. Мог бы объявить разминку по казармам. Чертыхаются беззлобно, для порядка – всё равно без толку.
Построение на улице Красного Курсанта, разойдись!
А больные?! – в один голос вопят забытые «шланги».
Прогулка по плацу четвёртого факультета в шинелях, старший – младший сержант Когтев, – бросает на ходу безжалостный Харлам.
Олег Когтев с тихой укоризной смотрит ему вслед, а мы спешим «оправиться» – на курсе целых два больших туалета, но утром их пропускная способность всегда на пределе. Немалую роль в этом играют хитрецы, сразу запирающиеся в кабинках и сидящие там до победного конца, невзирая на все стуки и угрозы.
А теперь уходите! Это мой колодец! – весело орут они в ответ, оккупировав очко.
Воспользовавшись писсуаром, выхожу на лестничную площадку и в толпе спускаюсь на третий этаж. Здесь мы сливаемся с потоком сонных третьекурсников шестого факультета, живущих под нами, и скорость движения замедляется. Минуем закрытую дверь в нашу столовую на втором этаже и сводчатым историческим коридором шагаем к выходу.
На Красного Курсанта холодно и промозгло, частит дождь. Чёрные лужи под суровым небом вспучиваются куполами сотен пузырьков, отражающих свет уличных фонарей.
Кучки курсантов на мокром асфальте быстро растут, приобретая очертание строя, и как только формируется колонна из пяти коробок, старшины командуют: «Бегом-марш!» – и очередной курс галопом срывается с места.
Юрка Савченко, командир нашей группы, встречает меня укоризненным взглядом – народ уже стоит в позе замёрзшего курсанта3. Киваю ему и становлюсь во главе колонны своих, обменявшись приветствиями с командирами первого и второго отделений Игорем Сосницким и Вовой Важким.
Гарна погода для зарядки! жизнерадостно изрекает никогда не унывающий Вовка.
Его отделение сумрачно помалкивает – привыкли к чудачествам своего сержанта.
Игорь, как обычно, с самого подъёма уже озабочен творческими материями:
Вот смотрите, в той песне, про лётчиков, поётся: «Беда наступила как ветер в глаза». Но какая же может быть беда от ветра в глаза? Никакой ведь, верно?
Мы соглашаемся да, явная нелепица.
Как палка в глаза, предлагаю я.
Точно! – радуется Сосницкий – он любит исправлять слабые места в песнях.
Курс, бегом-марш! – командует Харлам, и мы срываемся в галоп.
Столовая пропитана испарениями от сырых после кросса под дождём хебешек4. С плеч Кураева, который сидит напротив, пар валит столбом, обволакивая тусклый плафон под потолком. Мы сообща решаем, стоит ли есть то, что сегодня предложено на завтрак.
Расставленный загодя кухонным нарядом «гуляш» уже покрылся стеариновой коркой янтарного комбижира, серая жижа ячневой каши5 в бачке тоже не особо греет.
Общий вердикт – ну его нафиг, доберём своё в увале и окрестных булочных.
Переходим сразу к кофе6, сооружая себе богатырские бутерброды из двух кусков белого хлеба с маслом. Настроение приподнятое – сегодня суббота и после ПХД7 можно будет отвлечься от серых будней. Да здравствуют увольнения, культпоходы8 и самоходы9!
Мыслями мы все уже в городе.
Курс, закончить приём пищи, встать! Выходи строиться на плац третьего факультета! – это Харлам.
На плацу нас встречает курсовой офицер капитан Филюшин. Хороший знак – значит, Расыма сегодня не будет – ещё один приятный штрих к предстоящей субботе. Своего Папу10 мы уважаем, но благоразумно стараемся держаться от него подальше.
Начальник нашего курса полковник Ишкаев человек горячий – татарин, можно сказать. Чёрной молнией врываясь утром в расположение, он сходу ошарашивает нас каким-нибудь загадочным высказыванием, затем доводит до общего сведения текущий день недели, после чего приступает к «раздаче слонов». Нынче бог миловал, пронесло.
Мы строимся во взводные колонны, и Харлам командует:
Курс, смирно! Товарищ капитан, второй курс третьего факультета для следования на занятия построен! Старшина курса старшина Харламов!
Фил несколько отрешённо принимает доклад, он романтически задумчив в это весеннее утро. Наверное, мечтает о чудесном переводе от нас куда-нибудь на кафедру или в научно-исследовательскую лабораторию факультета.
Наши настойчивые покашливания и гмыканья выводят его из страны грёз.
Филюшин тихо здоровается и кивает Харламу – отправляй, мол.
Сонный дневальный по КПП распахивает чёрные железные ворота, и курс вытягивается с факультетского плаца на Пионерскую, похлопывая полевыми сумками в такт шагов.
Сквозь рваные тучи набирает силу мартовское солнышко, стучит на стыках рельсов сороковой трамвай – жизнь прекрасна! Полдня занятий и предстоящая уборка казармы и учебного корпуса на ПХД уже не воспринимаются – мыслями мы все уже в городе. Ну, не все, конечно, а официально идущие в увольнение тридцать процентов личного состава курса плюс культпоходчики. Самоходчики, ясное дело, тоже строят свои планы на окрестные общежития с девчонками.
Корпуса Можайки, раскинувшиеся на несколько кварталов, вбирают в себя курсантские колонны, напитывая опустевшие на ночь коридоры и аудитории. Печатают шаг бравые младшие курсы, спешат из общежитий и съёмных комнат отягощённые портфелями и семейными заботами старшекурсники, упруго шагают офицеры-преподаватели, с достоинством шествует военная и гражданская профессура.
Курс под уханье барабана длинной лентой вползает в институт через открытую решётку запасного входа и бодро шлёпает по лужам к серому кирпичному корпусу третьего факультета, где у нас сегодня первой парой лекция по матанализу11.
Курс, стой! Справа по одному на вход шагом-марш! – это Харлам.
Поднимаюсь на четвёртый этаж, приветствуя знакомых, и сворачиваю в коридор между 416-й и 431-й аудиториями, где сразу натыкаюсь на фотовыставку третьего курса «Мы в ЗУЦе12», посвящённую недавно прошедшему у них полевому тактическому учению.
Наш третий курс отличается цинизмом и чёрным чувством юмора – каждая их выставка это просто шедевр и повод для недоумения – как политотдел снова пропустил такое?!
Народ толпится у стендов и прыскает, обсуждая снимки и подписи под ними.
Гвалт смолкает – по коридору идёт начальник нашего факультета генерал-майор Дулевич. Мы поворачиваемся к нему, принимаем строевую стойку – и Владимир Евгеньевич отдаёт каждому из нас воинское приветствие, прикладывая ладонь к папахе и поворачивая голову – маленький, ладный, в «голубой» парадной шинели, затянутый в генеральскую портупею со звездой на пряжке. Его «ТОР»13, по слухам, переведён чуть ли не на пять языков!
Мы одобрительно переглядываемся – не каждый старлей нам так отвечает.
Звучит звонок, и толпа быстро рассасывается, посмеиваясь над майором Кильдеевым из учебного отдела, пытающимся пресечь перетаскивание пронумерованных стульев из одной аудитории в другую.
Здороваюсь с Ханифишем, он кивает в ответ и закатывает глаза – видишь, мол, чем приходится заниматься! Сочувственно покачав головой, иду в аудиторию.
Ну вот кто весной планирует лекции по матану на субботу?! Как по мне, так это дело совершенно безнадёжное. На занятия настроя никакого – да ещё и солнце на улице!
Задумчиво перевожу взгляд с огромного, во всю стену, окна 416-й аудитории на доцента Саморукова, увлечённо заполняющего доску диковинного вида формулами.
Вова Важкий, сидящий рядом, старательно переписывает их в свой конспект. Матанализ даётся Вовке туго, зловещий доцент Саморуков по кличке «Дед Мантан» с искалеченной на войне рукой и седой скандинавской бородкой его пугает. Вовка старше нас на три года, он поступил в институт после срочной службы ракетчиком где-то в Венгрии. В учебной группе его называют «СтарЫй» за ранние залысины и страсть учить всех жизни.
СтарЫй заботливо пихает меня локтем в бок и кивает на доску – пиши мол!
Я вяло ему поддакиваю, но не спешу. Во-первых, лень, а во-вторых, потому что уже хорошо изучил загибы Саморукова, периодически объявляющего, что «это всё неверно» и переписывающего свои иероглифы заново. Кроме того, у меня есть более интересное занятие – я наблюдаю, как двумя рядами ниже ребята из первой группы подкладывают своему засыпающему командиру отделения Лёне Бардакову выдвинутый спичечный коробок, деловито определяя на столе место, куда он неминуемо клюнет носом.
Лёня уже вошёл в режим автоколебаний и мерно раскачивается взад-вперёд с закрытыми глазами и нарастающей амплитудой, сладко посапывая – устал после наряда.
Высшим шиком является поставить коробок в точку, в которой «потухший» товарищ на финальном качке закроет его своим носом до упора.
Половина аудитории, забыв про эскапады Саморукова, завороженно следит за Лёней.
Ну, давай, ещё немного, левее…
Бац! Лёня хлопает лицом в коробок, задвигая его до упора, мгновенно просыпается, хватаясь за нос и, сразу всё сообразив, устало и безнадёжно спрашивает:
– Почему вы такие сволочи?
Соседи по столу делают вид, что вообще не при делах, давясь от сдерживаемого смеха, я тоже трясусь – как мало человеку, в сущности, нужно для радости!
Мне жалко Лёню, он перфекционист – любит, чтобы всё было правильно и красиво. Венец его творения – конспект по матану, который он ведёт с настоящим благоговением, обводя рамочками самые важные формулы и рисуя графики функций разными цветами.
Этот самый чудо-конспект добрые однокурсники, воспользовавшись его полуобморочным состоянием, уже перевернули вверх ногами и заботливо раскрыли на новой странице, рассчитывая, что он машинально продолжит писать, после того как очухается.
Народ, а что такое дивергенция? – задумчиво вопрошает СтарЫй, не в состоянии более поспевать за полётом мысли доцента.
Это почти то же самое, что импотенция, с готовностью объясняют с верхнего ряда.
Вовка, не оборачиваясь, беззлобно показывает им средний палец.
Лёня Бардаков, лихорадочно записывающий в конспект формулы Саморукова, которые проспал, к общему восторгу доходит до конца страницы, переворачивает её и видит уже исписанные листы, перевёрнутые вверх тормашками. На мгновенье он замирает, пытаясь осмыслить происшедшее.
– Ну почему вы такие сволочи? – грустно повторяет он, глядя в осквернённый конспект. Половина аудитории давится еле сдерживаемым хохотом – и я в том числе. Иисус нам точно этого не простит!
Это всё неверно! – оповещает впадающую в прострацию аудиторию Дед Мантан после секундной задумчивости, взмахом мокрой губки смахивает с доски свою многоэтажную формулу и начинает рисовать её заново.
По аудитории стон! Ну, ошибся человек, с кем не бывает?
Принимаюсь за свой конспект, стараясь сдержать улыбку и не смотреть на Важкого.
Юрка Савченко, перегнувшись с верхнего ряда, дружески стучит расстроенного Вовку по лысине и ласково обзывает старым паупером – нахватался ругательных слов на семинарах по философии. Звучит непонятно, но очень похоже на какого-то особенного пердуна.
Послеобеденный развод команд на ПХД и сама уборка назначенных объектов пролетают в мгновение ока – все уже в предвкушении предстоящего увольнения.
Моему отделению сегодня достаётся туалет на первом этаже факультетского корпуса – помещение малоизвестное широкой публике, а потому относительно чистое.
Некий озабоченный художник, правда, изрисовал все стенки кабинок шариковой ручкой, силясь изобразить на них женские половые органы, которых сам явно в глаза не видел.
Мы быстро зачищаем наждачкой бесхитростные плоды его девственных фантазий и протираем пол влажной шваброй, одолженной у дежурного по корпусу.
Возвращаемся на курс по тротуару в колонну по два, я иду сбоку, приглядывая за строем. Десять человек – от Камчатки до Ленинграда. Из них двое москвичей и трое ленинградцев – это самый проблемный контингент. Вместе с примкнувшим Чернышом из Ленинска они никак не могут смириться, что ими командует ровесник – да ещё из какого-то Рустави. Сами они в младшие командиры не рвутся – знают, какая это собачья должность – но при каждом удобном случае пытаются демонстрировать мне свою независимость.
И совершенно напрасно – я безжалостно давлю все их порывы к излишней свободе, умело используя свои небогатые дисциплинарные права – один наряд вне очереди и лишение очередного увольнения. Главное правильно их распределить.
Часть народа, например, так до сих пор и не поняла, куда же здесь ходить в увольнение – в Эрмитаж и на «Аврору» ведь уже сводили на первом курсе? Этих лишением увольнения не пронять – будут в выходные смотреть кино в клубе или шататься по курсу без дела – это москвичи и Черныш. Ленинградцы, наоборот, душу продадут за увольнение.
Каждого из них можно загнать в уставные рамки – и я знаю как.
Впрочем, основные баталии уже в прошлом, я их сломал – теперь они лишь обиженно величают меня тюремной кличкой «начальник» и периодически взбрыкивают – так, остаточные явления. Давно, кстати, не чудили – это настораживает.
Замечаю, как в слаженном шаге отделения нарастает сдвиг по фазе – низкорослые Аникин и Черныш в последней шеренге никак не поспевают за здоровенными Ковтонюком и Кураевым в первой. Всё, потопали вразнобой.
Привычно командую:
– Взять ногу!
– Что непонятно? Взять ногу! – с готовностью дублирует мою команду Дюмон Павленко, и всё отделение, слаженно согнувшись пополам, берёт себя за левую ногу и продолжает так шагать вниз башкой, сдавленно хихикая – обосрали, дескать, Ветра!
Павлин их идейный вождь, бунтарь, Че Гевара – Раков на него вообще чуть не молится. Остальные тоже ему поддакивают, чтобы не заподозрили в позорном соглашательстве с начальством – даже ребята из глубинки и с окраин, которые отлично всё понимают. Страшно представить, чего в своё время натерпелись от него школьные училки.
Димкин отец не последняя шишка в ОМКИК14 – с его помощью наша группа в прошлом году смогла попасть на «Маршала Неделина»15, проходящего здесь ходовые испытания – осмотрели потенциальное место будущей службы. Видимо, отчаялся сам справиться с сыном и сплавил его по знакомству в alma mater в надежде, что всемогущая Система сделает из него «нормального человека». Ага, как же. Блажен, кто верует.
Так уж случилось, но именно я первый винтик этой самой Системы – и мне он этим оказал просто медвежью услугу. Как и самому Димке – тот точно не создан для армии – слишком свободолюбив. А ещё умён, харизматичен и с брызжущим через край чувством юмора – я сам часто не могу удержаться от смеха, слушая его шутки и наблюдая за его проделками. И этим опасен – в Системе все должны быть более-менее одинаковыми и беспрекословно подчиняться своим командирам.
Справиться с Павлином у меня пока не выходит – мы с ним даже дрались в заброшенном туалете напротив Аллочкиного буфета16. Дюмон тяжелее меня, он быстрый как ртуть и со свинцовым ударом правой, но у него слабый нос и хлещущую оттуда кровь без помощи санчасти не остановить. Мои охламоны, увидев окровавленного Павлина, надолго тогда притихли. Но прошло время – и их любимый клоун снова на арене.
Невозмутимо шагаю рядом, с интересом наблюдая, насколько их хватит – идти в таком ракообразном положении ужасно неудобно.
Хватает почти на минуту – кремни!
Первым с ленивой ухмылкой выпрямляется Ковтонюк – дескать, ну ты же понимаешь, что это просто шутка! Потом отпускает ногу и виновато улыбается Истомин – коллектив, мол, ничего личного. К ним быстро присоединяется Алексашин – я, типа, вообще не при чём, это был не я. Кураев делает вид, что просто что-то уронил и долго так искал.
Оппозиционеры тоже принимают вертикальное положение от греха подальше – они уже знают, что со мной надо соблюдать меру. Только преданный Рачила упорно кондыляет кверху задом по Красного Курсанта, не желая подводить своего кумира, пока кто-то не даёт ему сзади дружеского пинка коленом – не тормози, мол, мешаешь.
Все спешат на курс, чтобы успеть подготовиться к увольнению.
Подразнили своего Ветра – и будет.
Новоизмайловский, 16
Выходят из общественного туалета студент и курсант. Студент идёт к умывальнику мыть руки, курсант сразу топает на выход. Студент высокомерно замечает ему вслед: «А вот нас в универе учат мыть руки после того как пописал!». Курсант невозмутимо бросает через плечо: «А нас в Можайке учат не писать на руки!».
Ещё не подведены итоги ПХД, ещё не вернулись с объектов все команды, ещё не высох свежевымытый паркет казармы, а на курсе уже начинается суета. Бытовка забита народом, за утюгами очередь, жужжат электробритвы, у каптёрки17 с парадкой столпотворение.
Это особая суета, греющая курсантское сердце – суета перед увольнением.
Удовлетворённо осматриваю свою парадку – брюки гладить не надо и рубашка почти свежая. Не спеша переодеваюсь и иду к подоконнику нашего спального расположения.
Сегодня я не меняю казённые труселя на элегантные плавки, не надеваю чёрную футболку с таинственной надписью «Sveiks!» и не мою голову холодной водой в умывальнике.
Сегодня в городе меня никто не ждёт. А если и ждёт, то я туда не пойду. Отгорело.
Удобно устраиваюсь на подоконнике и лениво жду команды на построение, по привычке вполглаза присматривая за своими.
Вот Слава Раков сосредоточенно нюхает носки, решая, можно ли в них появиться в приличном обществе. Результат явно неутешительный – это чувствуется и от окна.
Стирать поздно – не успеет высушить – но разве есть безвыходные ситуации для советского курсанта?
Слава поливает носки одеколоном «Айвенго». Это как сыпануть сахару в пересоленный суп – получается натуральное дерьмо, в чём Слава тут же убеждается, в очередной раз осторожно нюхнув носок.
Секундное замешательство сменяется решимостью, и Слава куда-то убегает со своими носками ко всеобщему облегчению остальных обитателей спальника.
Из угла пятой группы раздаются первые аккорды гитары «Клуба лишённых увольнения» – там собрались вычеркнутые из списка увольняемых за успеваемость и «политику».
От тумбы дневального наконец-то раздаётся долгожданное:
Увольняемые, выходи строиться!
Из расположений учебных групп высыпают увольняемые, выстраиваясь в центральном отсеке для осмотра. Не спеша выхожу вслед за всеми.
Харлам обходит строй, придирчиво оглядывая каждого. Обычно при осмотре слабым местом являются причёски, но сегодня с ними всё в порядке – в среду был внезапный строевой смотр факультета, о котором Папаша предупредил нас за неделю.
Харлам, бегло пройдясь по нашим стриженым затылкам, переходит к проверке наличия стрелок на брюках, носовых платков, расчёсок в чехлах, обязательных 10 рублей и тому подобных мелочей. Осмотром он остаётся доволен – удивительный факт – и уже было собирается раздать увольнительные записки, как от тумбы орут:
Курс, смирно!
Товарищ полковник, за время моего дежурства происшествий не случилось, курс готовится к увольнению, дежурный по курсу младший сержант Шапоров! – рапортует кому-то Гена в вестибюле казармы.
Кто это там? Ага, это подполковник Репин, наш зам по службе войск – единственный человек на факультете, у которого голова всегда на плечах.
С чего это он к нам в субботу – да ещё и не один? Рядом с невысоким плотным Репиным стоит элегантная моложавая женщина, с интересом озираясь по сторонам.
Мы недоумённо переглядываемся, но в это время каптёрщик18 Лёха Портнов из четвёртой группы, протискивающийся за строем, громким шёпотом поясняет, что это ревизор – прибыла проверять наличие и учёт материального имущества на курсе.
Харлам докладывает Репину, тот благосклонно его выслушивает, затем поворачивается к строю и в своей обычной манере угукает:
Здравствуйте, товарищи курсанты!
Здравия желаем, товарищ полковник19! гаркаем мы в ответ.
У всех уже дурное предчувствие, поэтому выкладываемся на полную, выпячивая колесом молодецкие груди, но не срабатывает.
Напоминаю о правилах поведения в городе, товарищи курсанты! важно изрекает Репин и начинает пространно «напоминать», явно рисуясь перед своей спутницей.
Я пропускаю избитые фразы из одного уха в другое, мне обидно за дёргающихся в строю ребят – у них же весь убогий остаток времени в городе расписан по минутам!
Харлам тоже недобро посматривает на Репина – но тому хоть бы хны.
Электрические часы на стене с негромким щелчком перебрасывают вперёд чёрную минутную стрелку. Хочется материться.
Ага, похоже, материться не придётся!
Наступившая на курсе тишина выталкивает меня из задумчивости и заставляет воссоздать в памяти последнюю фразу Репина. А она весьма примечательна – особенно если учесть стоящую рядом с ним молодую интеллигентную ревизоршу:
А ботинки у курсанта должны блестеть как у кота что?
Неуместность вопроса доходит до Репина с опозданием, он замолкает и, скосив взгляд на заливающуюся краской женщину, обречённо ждёт, когда из монолитного строя злых на него увольняемых неизбежно донесётся правильный ответ.
Молчание затягивается – мы с удовольствием созерцаем застывшего в замешательстве Репина. Наконец кто-то, сжалившись, бросает:
Глаза, товарищ полковник!
Правильно, глаза! – облегчённо подхватывает Репин и, от греха подальше, приказывает отправлять увольняемых.