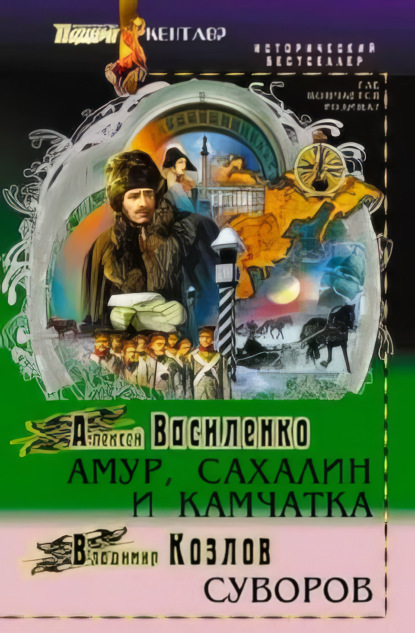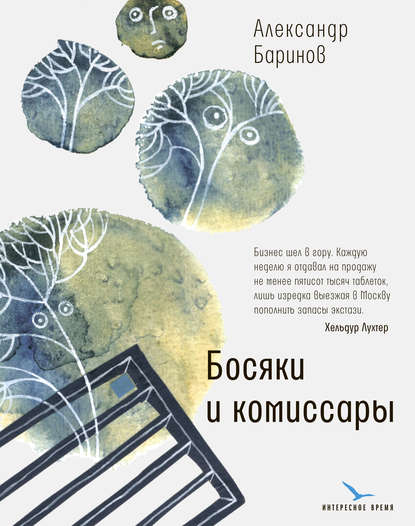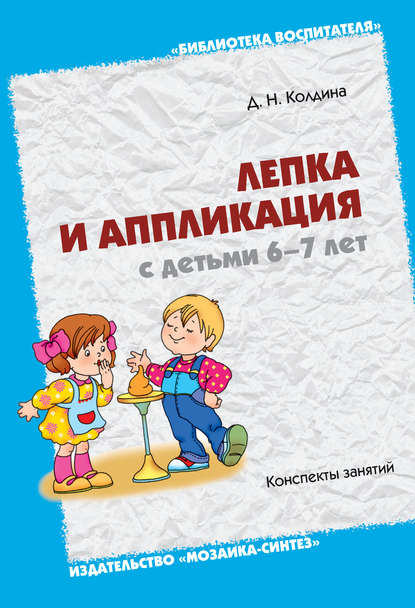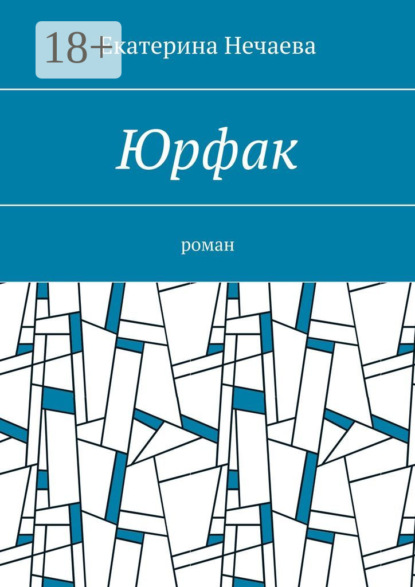- -
- 100%
- +

Глава 1
Всю жизнь Николая Николаевича преследовало одно воспоминание. Когда-то очень давно, в незапамятные времена детства и отрочества, но уже после их с братом и маменькой дивного житья в усадьбе, после липовой тиши аллей и чаёв на закате, после нежного воспитания и ласковой опеки, когда Екатерина Николаевна глаз с них не спускала и надышаться на детей не могла, ему с младшим братом Валерианом, Валерочкой пришлось врастать в новое бытиё, привыкать жить совсем по-иному. Самый младшенький брат был в этом случае не в счёт – после того, как маменька умерла, он был полностью на попечении нянечек и кормилицы, и им с братом не привелось с малышом играть и проказничать. Из-за этого, наверно, они с Александром так и не сблизились сердечно на протяжении жизни. Да и время без матери оказалось коротким: они с братом вдруг очутились в известном частном пансионе, где главным был человек с фамилией, будто написанной латинскими буквами: Годениус. Отец представлял, видимо, что именно такая фамилия может гарантировать его сыновьям, сыновьям могущественного нижегородского губернатора, поступление в университет, в храм науки, как о том мечтала Екатерина Николаевна, его покойная супруга.
В общем-то, по прошествии времени оказалось, что отец не очень ошибся: пансион, будучи совсем неплохим заведением, давал своим воспитанникам хорошее образование, но представлял собой совсем иной мир, в который сложно было окунуться взлелеянным в усадьбе детям. Этот мир – незнакомый, немного враждебный, наполненный дотоле неизвестными понятиями и явлениями, знакомил с новыми сторонами жизни, учил мальчишеской дружбе, верности, презрению к предательству, вселял в головы подростков уважение к Отечеству, к его интересам. И амбициям потакал пансион, стремлению быть не хуже других, выделиться, уже в юном возрасте быть готовым к сложностям взрослости.
И вот тогда – то Николаша Муравьёв сумел возвыситься в глазах соучеников поступком странным, хотя и бесшабашным.
Возле высоченных тяжёлых дверей преподавательской комнаты на фоне бронзового великолепия витых ручек стоял незыблемым приложением к этим дверям такой же дубовый тёмный ящик – высокий и узкий. В него в непогодные дни все преподаватели складывали свои зонтики. Впрочем, не все эти предметы могли называться таким легкомысленным названием. Были здесь и огромные сооружения, которые иначе, чем солидно звучавшим словом «зонт» и называть было бы неприлично. Дождливыми днями Николаша долго присматривался к этой коллекции, а потом однажды, когда поблизости никого не было, на него что-то нашло: он выбрал самый большой зонт, стремглав пробрался на крышу невысокого здания пансиона и раскрыл это противодождевое устройство. Дождь приутих, во дворе уже бегали воспитанники. Убедился, что во дворе есть зрители, и… прыгнул. Позже он повторял этот номер неоднократно, успешно избегая всяких разговоров по поводу временно исчезнувшего зонтика, поскольку каждый раз приземлялся благополучно и незаметно возвращал зонт на место.
Но это было позже, этим он зарабатывал авторитет среди однокашников, а Валерочка вообще смотрел на него восторженно. Да, это всё – потом. А тогда он стоял на краю крыши, прислушиваясь к острому холодку внизу живота и к кружащей голову неизвестности: я-то сделаю шаг, а что будет дальше? Узнать, не шагнув, невозможно, но как же хочется узнать досель не изведанное!
Вот это мгновение, воспоминание о нём, сопровождало Николая Николаевича всю жизнь. И всякий раз, когда ему приходилось стоять над пропастью неизвестности, когда шансы на успех и неуспех были примерно равными, он вновь ощущал и холод, и головокружение.
Но – делал шаг!
Спустя много лет другой подросток в том же примерно возрасте стоял в парадном двусветном зале навытяжку перед величественным стариком, который изволил взглянуть на Морской корпус, на будущих офицеров флота и даже почтил своим присутствием экзамен. Именно тогда граф Гейден, прославленный морской флотоводец, адмирал, герой Наваринского сражения, слушавший в полудрёме ответы юнцов, вдруг встрепенулся, оживился: он услышал не затверженные прописные истины, а здравые рассуждения, которые вполне могли бы привести к новым истинам; не перечисление фактов, а путь, для которого эти факты надо было добыть. Кадет излучал силу убеждения, его умственному напору не мешало даже лёгкое заикание. Граф склонил голову к экзаменатору:
– Фамилия?
– Невельской.
Гейден пожевал губами, словно пробуя ответ на вкус:
– Помню на флоте нескольких Невельских. Наследный, значит… А хорош, хорош!
– Товарищи прозвали его Архимедом. А в общем – семья не очень состоятельная, из Костромы, точнее даже – из Солигалича, из тех краёв.
После экзамена адмирал велел позвать Невельского.
– А зовут-то тебя как?
– Геннадий Иванович, ваше высокопревосходительство! Гейден усмехнулся:
– Ну, что ж, Геннадий Иванович! Попался ты мне на глаза, так спуску теперь не жди, буду следить за твоими успехами. Молодец!
Почему в моряки решил податься?
Невельской словно почувствовал родственную душу, посмотрел снизу ясными глазами:
– Моря у нас в Костроме нет. А кругом живут одни моряки. Родственники – моряки, соседи – моряки. Хочу в океан, хочу новые земли открыть…
– Попутного тебе ветра, Геннадий Иванович!
Прошло ещё более пятнадцати лет. Над Волгой стоял такой редкий в этих краях жаркий день. Многочисленное семейство уездного предводителя дворянства выбралось сюда, на берег, за десяток вёрст от усадьбы довольно шумной гурьбой. Николай Карлович, ротмистр в отставке, участник Отечественной войны, грел на солнце старые раны, удобно расположившись в раскладном кресле, Екатерина Дмитриевна распоряжалась подготовкой к завтраку на траве, девочки затеяли какую-то возню, Саша и Коленька, следуя мальчишескому инстинкту, бродили вокруг, исследуя прилегающее пространство. Саша, как старший (пусть всего на год, но старший!), предложил искупаться. Быстро раздевшись до панталон, он зашёл в реку и, стоя по пояс в воде, подтрунивал над братом, который, не умея плавать, мялся в нерешительности на берегу. Дошло до того, что Сашка вышел и потащил Коленьку за руку. Зайдя по грудь в воду, они плескались, подпрыгивали, удивляясь тому, как легко это делать в реке. Сашка даже проплыл немного, показывая, что нужно делать руками и ногами.
Волга была плавной и спокойной. Следя за братом, Коленька напился из реки, потом стал подпрыгивать, как делал это только что, и не заметил, как течение уводило его всё дальше от берега, как начало оно набирать силу. Окунаясь с головой и выпрыгивая, Коленька вдруг ощутил, что ему не хватает прыжка, чтобы выскочить из воды. Он решил в следующий раз оттолкнуться от дна посильнее. Толкнувшись изо всех сил, он понял, что здесь уже глубоко, что, вынырнув, нужно успеть вздохнуть, прежде чем погрузиться в прозрачную воду и увидеть дно.
Страх охватил Коленьку. Он, конечно же, много раз слышал об утопленниках, но чтобы так просто, среди бела дня, рядом с папенькой и маменькой… А Сашка не оглядывается. Крикнуть? Но тогда не успеешь набрать воздуха! Нет, нужно отталкиваться ото дна до тех пор, пока хватает сил. Выныривать, лихорадочно набирать воздух и опять медленно опускаться на глубину…
А она становилась всё больше. Он уже не достигал дна, уже нужно было отталкиваться не ногами, а руками, да не от песка, а от воды. Под водой – тяжёлой и прохладной – руки двигались, как крылья у птицы, медленно и плавно. Только вынырнув на поверхность, он успевал шумно ударить ладонями несколько раз по воде, разбрасывая брызги. В какой-то момент он почувствовал, что плывёт! Уже умеет!
Но до берега ему, зажатому страхом, с окаменевшими мышцами, не доплыть… И никому уже не расскажешь, что он научился плавать!
И тут он почувствовал дно. Сначала ногами, потом тело коснулось песка… Он понял, что можно встать. Осторожно опёрся. Поднялся. Воды было по колено. Это была невидимая под водой песчаная отмель, шедшая от берега.
Он вышел. Ноги дрожали. Отдышался. Пошёл к месту, где они зашли в воду. Меж кустами бродил Сашка.
– Вот ты где! А я-то думал – куда ты пропал? Ну, что, будем учиться плавать?
Коленька впервые посмотрел на брата, как на несмышленого малыша:
– А я ведь уже умею.
Он зашёл в воду и поплыл. Смешно подгребая под себя руками, вдоль берега, но поплыл! Большие плавания были у него впереди.
Судьбе было угодно, чтобы эти три человека разного возраста, разных взглядов и общественного положения стали однажды рыцарями одного ордена, одной идеи, одной цели. Каждый из них в отдельности не сделал бы то, что сделали для России они все вместе.
Глава 2
Во сне Карлу Васильевичу был добрый знак: явился ему самый обожаемый император. Собственно говоря, любой из трёх императоров, правивших при его жизни, имел в его лице вроде бы верного и послушного слугу. Со всеми ему удавалось не просто быть исполнителем их воли, но и осторожно вести свою политику, умело внушая властителям, что это именно их мысли, именно их решения.
Важно было только действовать не так, как примитивно действовали бездарные русские государственные мужи: не льстить, не унижаться. Держать себя с достоинством и… окружать себя некоей тайной, а точнее – иллюзией тайного знания чего-то чрезвычайно важного. В этом деле не следовало перегибать палку, быть умеренным, на прямые вопросы отвечать уклончиво: не смею, мол, делать окончательные выводы, необходимо ещё собирать сведения… Только потом, мол, смогу сообщить… Канцлер, министр иностранных дел не имеет права ошибаться… И такими словами, такой интонацией держать, держать венценосца в постоянном ожидании какого-то откровения. Вот тогда-то, когда соответствующая атмосфера создана будет, можно преподнести какие-то свои мысли как результат длительного наблюдения и анализа международной обстановки. После этого почти наверняка можно сказать, что император примет решение в желательном русле.
А ещё Карл Васильевич Нессельроде умел осторожно и аккуратно расставлять вокруг властителя людей, разделявших его взгляды, статистов в высших чинах, главная роль которых – поддерживать мнение о безошибочности предвидений канцлера. Этот театр у него был любимым занятием, своеобразной шахматной доской. Нет, он не желал ставить чужим королям мат хотя бы потому, что многие из них были ему роднее, чем его собственный правитель.
Но невидимое войско, руководимое Карлом Васильевичем, должно было держать очередного русского самодержца в уверенности, что без именно этого канцлера ему будет очень трудно руководить огромным государством.
…Да, такой сон явно предвещал удачу. Особенно если учесть, что приснился Карлу Васильевичу не нынешний император Николай Павлович, а его отец – Павел I, при котором Нессельроде был замечен и начал свою великолепную карьеру. Сработали такая же, как у Павла, ненависть ко всему русскому и обожание всего прусского. Во сне Павел I долго что-то говорил, покачиваясь на каблуках взад-вперёд, но что именно – Карл Васильевич, как ни силился, так и не смог вспомнить.
В общем, утро было приятным. Нессельроде не любил ничего нового, всего, что могло бы внести в размеренную, спокойную жизнь какую-то неустроенность, какое-то беспокойство. Течение времени не должно нарушаться ничем неожиданным. С утра, вот как сейчас, – привычный бисквит и рюмочка малаги. Затем – обстоятельный и неторопливый разговор с поваром о предстоящем обеде. Нет, нет!
Никаких приёмов! Просто Карл Васильевич очень почтительно относился к кулинарии, но благодаря своей нелюбви ко всему новому, не терпел в ней изобретательства, экспериментов. Он считал, что на всё (и это убеждение распространялось у него не только на кулинарию!) уже давным-давно были изобретены рецепты. Поэтому он должен был знать, что то или иное блюдо, пусть даже и впервые появившееся у него на столе, традиционно, что оно столетиями готовится в какой-нибудь стране именно так, а не иначе.
С годами он всё больше и больше не переносил любые неожиданности. Консерватизм его был известен многим, и они, эти многие, иногда пользовались этим. О любом деле, которым не очень хотелось заниматься высокому чиновнику, достаточно было доложить канцлеру, что оно несёт в себе изменение давно существующего порядка вещей. И дело немедленно отправлялось «на последующее изучение», а по сути – в долгий ящик.
Так хорошо начавшийся день мог быть испорчен уже самим фактом проведения заседания комитета министров. Поэтому, только вступив под сень министерства иностранных дел и с привычным удовлетворением отметив про себя опасливые взгляды чиновников, торопившихся проскользнуть мимо, почтительно, впрочем, поздоровавшись, Нессельроде продолжил настраивать себя на роль могучего канцлера. С каждым прошедшим годом делать это становилось всё труднее, он отдавал себе в этом отчёт. Маленький старичок сохранять своё величие мог теперь только умом, хитростью. Именно поэтому он тщательно готовился к любому своему публичному появлению.
Сегодня предстояло обсудить вопрос буквально возмутительный. Невельской, капитан начального ранга, осмелился утверждать, что Сахалин – это остров, и между ним и материком имеется пролив, о котором ничего не знали многие выдающиеся мореплаватели. Мало того, он заявляет, что Амур впадает в этот пролив и вполне судоходен! А ведь не далее как два года назад всё это проверялось. Какими только сущими пустяками ни приходится заниматься!
Впрочем, пустяками ли? Ведь этот… как там его… Невельской – явный ставленник недавно назначенного генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьёва. А у того, как уже неоднократно доносили, множество разных планов относительно восточных берегов России. Завихрения, видите ли, у этого выскочки. Нет ли во всей этой истории какой-нибудь интриги, провокации? Посмотрим, посмотрим…
Нессельроде вошёл в кабинет, потянул носом воздух. Всё было сделано правильно, в точности по его указанию: перед его приходом в любую погоду специально сделанные тройные оконные рамы распахивались, и кабинет проветривался, после чего окна закрывались, и помещение в случае необходимости согревалось до нужной температуры. Сев за стол он критически оглядел его девственную чистоту, обнаружил, как всегда, идеальный порядок.
Удовлетворённый, решил, что уже можно предстать перед приглашёнными. Предстать тем самым великим Нессельроде, в руках которого много раз была страна, её судьба, её будущее. Нет, конечно, последнее решение принимает император, но ведь всё зависит от того (Карл Васильевич усмехнулся, зная, что его сейчас никто не видит), как доложить-с, господа, как доложить! А это право дано всего нескольким лицам в империи. И если к одним лицам властитель может и не прислушиваться, то голос Карла-Роберта Нессельроде, канцлера Российской Империи, графа, тридцать с лишним лет управлявшего всей внешней политикой, не услышать было просто невозможно! Вот и по этому вопросу в своё время голос канцлера был услышан, и было уже принято решение. Не кем-нибудь!
Императором! А тут возникает какой-то капитан-лейтенант Невельской…
…История с принятым решением начиналась уже несколько лет назад. Несмотря на категорическое утверждение известных русских и иностранных мореплавателей о том, что Сахалин – полуостров, что устье Амура несудоходно (а такое действительно иногда встречается в природе), среди тех, кто не сидел в столицах, а работал в Охотском или, как его называли в старину, Дамском море, на Камчатке и Аляске, в Русской Америке, всё время бродили слухи о том, что это не так. Веских доказательств не было ни у кого, основывались на каких-то неясных устных сведениях, полученных тоже из источников, не вызывающих научного доверия – от местных охотников, каких-то полупиратов и тому подобных непонятных личностей. И всё громче раздавались голоса о том, что необходимо послать специальную экспедицию для проверки этих слухов. Голоса эти дошли до Фердинанда Петровича Врангеля, барона и мореплавателя, возглавлявшего Русско-Американскую компанию, а через него – до Нессельроде.
Карл Васильевич отнёсся к этой идее с юмором: от участия в подобном мероприятии он попросту отстранился. Правда, на всякий случай доложил об этих разговорах императору. И вот тут произошла осечка. Император заинтересовался этим делом, посчитал его очень важным для России и велел канцлеру заняться экспедицией вплотную. Врангель получил соответствующее распоряжение, сопровождаемое устными наставлениями Нессельроде:
– Фердинанд Петрович, голубчик, вам высочайше разрешено проверить слухи, распускаемые всякими смутьянами. В общем-то, мне и объяснять вам нечего, вы сами прекрасно знаете положение вещей. А посему не очень утруждайте себя, пошлите кого-нибудь, чтобы с попутными делами просто формально он подтвердил, что белое – это белое, а чёрное – есть чёрное. Но! Всё нужно сделать в максимально короткие сроки и уж, конечно, не задевая никаким образом, не зацепив ненароком иностранных интересов. И докажите всем Фомам неверующим отсутствие пролива и невозможность морского судоходства по Амуру.
Решили сделать по сему. Врангель приказал управляющему русскими колониями Тебенькову, сопроводив указание на всякий случай ещё более строгими ограничениями. Управляющий вскоре снарядил к устью Амура небольшой бриг «Константин» под командой подпоручика корпуса штурманов Александра Гаврилова. Вся экспедиция при малочисленном составе оснащена была неплохо. В помощь Гаврилову были выделены ещё три штурмана, два десятка матросов, две шлюпки, две байдарки.
Всё, что предваряло этот поход, очень нравилось графу Нессельроде. Он оказался во главе сложной интриги против своей воли, но уже попав в неё, не выпускал вожжи из рук. Дело в том, что ещё в 1843 году в Охотск Российско-Американской компанией был назначен правителем фактории лейтенант Завойко. Факт этот, вовсе непримечательный, приобретал значение, если знать, что Завойко был женат на племяннице барона Врангеля, а новая должность была как бы свадебным подарком. Но Завойко в Охотске долго не задержался. За короткое время он разобрался в ситуации и отправил барону пространные предложения по переносу фактории из Охотска в Аян.
Как тут было не порадеть родному человечку! Даже в том случае, когда он жаловался (во многом обоснованно) на заслуженного моряка, начальника Охотского порта Вонлярлярского. Молодому и рьяному пожилые часто кажутся ретроградами и помехой в карьере. Лейтенант Завойко предложил решить вопрос кардинально: перенести факторию из Охотска в Аян, значительно южнее.
Врангель согласился, но своим согласием подвёл мину под Вонлярлярского, которого через пару лет в качестве утешительного приза вознаградили за долгую службу чином контр-адмирала и перевели на юг европейской России. Но мина тихой сапой была подведена и под весь Охотск, потому что в этот порт корабли заходили больше по коммерческим делам, а после переноса фактории усилиями Завойко и его ближайших помощников – приказчика Березина и ссыльного Дмитрия Орлова – именно Аян стал постепенно становиться и формально, и фактически главным портом Охотского или, как там привыкли его называть по-старинному, Дамского моря. И напрасно тогда ещё капитан первого ранга Вонлярлярский пытался доказывать, что вокруг Охотска есть лес для строительства, что гавань там не замерзает, несмотря на более высокие широты, что у Охотска есть ещё немало других плюсов по сравнению с Аяном, ничто не помогало. Врангель, следуя доводам, настаивал на преимуществах Аяна и старался обходить вопрос об отсутствии дороги из Якутска.
Было забавно всё это наблюдать, и Нессельроде, снисходя к чужим слабостям, поддержал ходатайство о наделении лейтенанта Завойко правами главного правителя колонии. Василий Завойко перескочил через чин, стал капитаном второго ранга и Василием Степановичем. Правда, некоторое время спустя стали обнаруживаться подспудные минусы всей этой операции. Из Охотска в Якутск, а следовательно – и западнее, и на юг, была какая-никакая дорога, больше похожая, правда, на вьючную тропу протяжённостью 1100 вёрст. Добраться по суше до Аяна было гораздо сложнее уже потому, что сама еле угадываемая тропа и хлипкие гати через болота никем и никак не обслуживались – не было по пути практически никакого жилья на протяжении сотен вёрст. Отрезанный от всего остального мира, Аян жил только морем и редкими заходами кораблей.
Завойко, человек по натуре деятельный, вместе с обстраиванием Аяна сразу начал работы и по обустройству дороги. Но дело было долгим и совершенно безнадёжным. Строительство мало-мальски нормального пути требовало, как подсчитал как-то Завойко, ежегодно тысяч лошадей и рабочих рук. А самое главное – конца такому строительству практически не было. На сооружение дороги при самых благоприятных условиях ушло бы никак не менее десяти лет. К концу этого срока всю работу уже потребовалось бы начинать заново… Так что у Завойко, начавшего эту бесконечную стройку, не было самого главного: веры в то, что хоть что-то из всего этого получится.
Завойко за время жизни у Дамского моря постепенно стал приверженцем медленного и постепенного освоения восточных земель без всяких рискованных исследований, без чреватых международными осложнениями авантюр. Он видел сотни деревень, заселённых привезёнными из центра России людьми. Располагаясь вдоль троп и дорог, по берегам рек, деревни эти неуклонно облагораживали бы эту землю. Постепенно и местное население освоило бы земледелие, узнало бы других домашних животных кроме оленей… Начать он решил с себя, справедливо полагая, что нужен наглядный пример. Едва прибыв в Охотск, он вместе с супругой начал заниматься огородничеством, посадил плодовые деревья. Над ним втайне посмеивались, но упрямый Завойко всё же добился своего: вырастил овощи, которые всем показывал и которыми всех угощал, а деревья не погибли и стали расти там, где не могло расти ни одно культурное дерево.
В Аяне Завойко продолжил свои занятия и ещё более укрепился в убеждении, что если приучить местное население к земледелию – пусть трудному, пусть сложному, – то смягчатся нравы, и в хозяйственном отношении людям просто будет легче жить.
Нессельроде всячески старался поддерживать такие взгляды за их неторопливость, внешнюю солидность, отсутствие всяческих потрясений. Он никому и никогда на свете не признался бы в том, что станет известно значительно позже, – в тайных связях с Англией и незаметной поддержке всех начинаний этого старого политического волка. А он, этот волк, за последние годы проявлял активный интерес к востоку континента. Аппетиты его распространялись не только на Китай – почти уже утраченную колониальную мечту. Островитяне явно не скрывали своих притязаний к восточным территориям России.
Увлечённость Нессельроде Европой была известна всем, поскольку лежала на поверхности. Да Нессельроде и не делал из этого тайны, каждый раз подчёркивая:
– Я хоть и русский государственный деятель, но я всё же Карл!
Именно потому, что таких «всёжекарлов» в России было очень много, скрывать свои симпатии канцлер не считал нужным, как не открещивался он и от своего восхищения Талейраном и Меттернихом. Но связи с британским львом – это уже самое тайное из тайных! В глубине души он с нетерпением ждал, когда же, наконец, владыка морей поймёт, что Россия уже далеко не та, какой сломила хребет Наполеону. Тогда, в 1812 году, в союзе с Меттернихом ему удалось удалить от командования русской армией Кутузова, не желавшего вести войну в Европе и терять ещё множество русских солдат за интересы чужих королей. Да, тогда Нессельроде выиграл схватку.
Война была продолжена. Но победа над Наполеоном имела и оборотную сторону: старушка Европа так напугалась русских, что долго боялась их потревожить, не замечая, что Россия, опьянённая победой, всё более и более отстаёт, слабеет, замедляет движение. Вот тут бы…
Острым чутьём Нессельроде уловил, что, несмотря на промедление англичан и европейцев, момент начала нового передела мира уже близок. А тут появляются какие-то сомнения, кто-то мутит воду, пытается оспаривать давно установленные истины. И дело ведь не в том – остров Сахалин или полуостров! От ответа на этот вопрос зависела степень освоения и укрепления берегов России. Поэтому нужно сделать так, чтобы надолго утвердилась мысль о невозможности освоения этого края!
Впрочем, докладывая императору о сути вопроса, Карл Васильевич столкнулся с неожиданностью. Он рассчитывал на обычную спокойно-доверительную реакцию Николая I, которая могла бы звучать примерно так: «Ну, ты, граф, проследи за всем этим».
Вместо этого он услышал:
– Нужно принять все меры, чтобы паче всего удостовериться, могут ли входить суда в реку Амур, ибо в этом и заключается вопрос, важный для России.