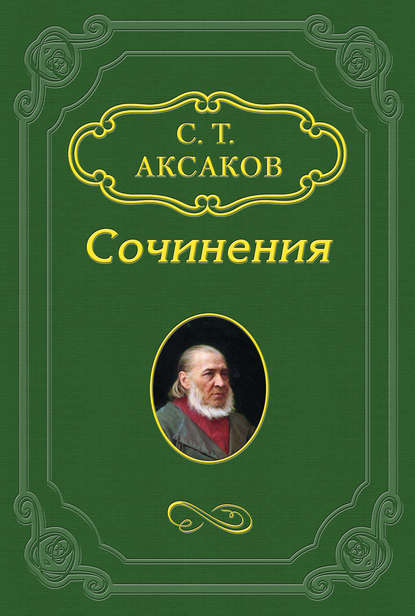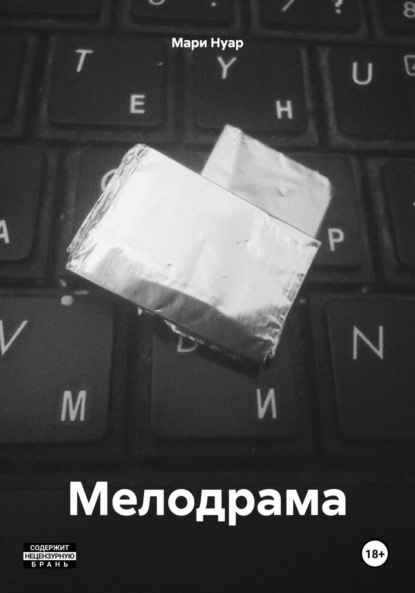Эмиссия креатива

- -
- 100%
- +

Утреннее солнце
Первым всегда просыпался ворон. Он сидел на ветке старого кипариса, у кромки идеального газона, и смотрел своим черным глазом на спящую виллу, в сторону огромного панорамного окна, за которым царил мрак. Ворон ждал сигнала.
И сигнал появился. Ровно в семь утра внутри дома зычно прозвенел колокол. Не будильник смартфона, а именно колокол, тяжелый, бронзовый, отлитый специально для этого ритуала пробуждения.
Ворон не вздрогнул. Он лишь наклонил голову.
Дом вздохнул, зашумел, ожил. Из невидимых динамиков полилась бесстрастная электронная мелодия – математически идеальная, лишенная малейшей человеческой ошибки. На кухне, из никелированного тостера, с щелчком взметнулись вверх два квадратных ломтя хлеба, закипел умный чайник, сам себе отмеряя ровно двести миллилитров воды температурой ровно девяносто восемь градусов.
Затем, с шипением, пробудилась система полива. Из утопленных в землю форсунок взметнулись веером радужные брызги, орошая розы, которые никто не нюхал. Следом загудел аппарат оксигенации в бирюзовом бассейне, выстреливая в воду миллиарды пузырьков, чтобы она оставалась кристальной для купальщика.
Из своего сарайчика-конуры выполз робот-газонокосильщик. Он заурчал, как добродушный металлический жук, и принялся вычерчивать на траве безупречные параллельные линии. Вслед за ним, уже из дома, выкатился пылесос-уборщик. Он бесшумно и настойчиво полз по полированному мрамору, всасывая невидимые пылинки.
Ворон с дерева следил за этим балетом машин.
Пылесос, двигаясь по запрограммированному зигзагу, подкатился к массивному креслу у окна. Он наткнулся на препятствие – мужскую ступню в дорогом мягком мокасине, уперся в нее бампером, попытался объехать. Не вышло. Отъехал назад, сделал новый заход. Снова уперся, настойчиво, терпеливо, с механическим упрямством. Он не был запрограммирован на распознавание «спящий хозяин» и считал его препятствием.
В кресле, купаясь в лучах утреннего солнца, сидел Хозяин. Его рука безвольно свесилась с подлокотника, пальцы почти касались пола. На лице застыла улыбка, сделанная пластическим хирургом. Он был частью интерьера. Еще одним совершенным, молчаливым, бесполезным устройством в его собственном доме.
Пылесос, исчерпав попытки, смирился. Он классифицировал ногу как постоянное архитектурное препятствие, внес поправку в карту местности и, тихо урча, пополз дальше, к своей зарядной станции.
В этот момент на столе, рядом с рукой Хозяина, ожил смартфон. Его экран вспыхнул, автоматически, по расписанию, на него стало поступать утреннее издание новостей. Заголовки мелькали один за другим: биржевые сводки, прогноз погоды, скандалы в парламенте. Робот-газонокосильщик, закончив свою работу, так же автоматически вернулся в конуру.
Музыка смолкла. Тостер остыл. Чайник перестал свистеть.
Наступила тишина. Совершенная, оглушительная, доведенная до абсурда тишина богатого, умного, мертвого дома.
Только ворон на дереве вдруг сорвался с ветки. Он тяжело взмахнул крыльями, пролетел над бассейном, розами, безупречным газоном и уселся на подоконник, прямо перед тем, кто был Хозяином. Он посмотрел на свое отражение в темном экране смартфона, где продолжали бежать строки новостей, которые никто не читал.
Каркнул. Один раз. Звук был грубым, живым, настоящим. Он был единственной не запрограммированным созданием во всем этом идеальном мире, освещаемым утренним солнцем.
Фильтр тонкой очистки мыслей.
Лавкрафт сидел на просиженном диване в сервисной зоне, и мир для него состоял из двух вещей: назойливого запаха бензина, масла и остывшего асфальта, и уродливого, не поддающегося решению уравнения у него перед глазами. Оно было его Мефистофелем, наваждением, бессонными ночами. Задача оптимизации квантовых алгоритмов, которая должна была сделать его знаменитым, вместо этого грозилась свести с ума.
Снаружи доносилось шипение пневматического гайковерта и металлический стук. Мир грубой физики. Мир, который профессор Лавкрафт давно покинул, предпочтя ему изящную вселенную чистой математики.
Дверь открылась, впустив порцию влажного летнего зноя. Вошел механик, Клем, вытирая огромные, испачканные маслом руки ветошью, которая была немногим чище их.
– По вашему фильтру, профессор, – голос у Клема был хриплый, будто по нему прошлись наждачной бумагой. – Дело не в масле, дело в грязи.
Лавкрафт взрогнул, отрываясь от своего внутреннего кошмара. «Фильтр». Слово повисло в воздухе, зацепившись за крючок в его подсознании.
– Грязь? – переспросил он рассеянно.
– Ага, – Клем выдохнул, сел на соседний стул, который под ним жалобно хрустнул. – Мелкая металлическая стружка, песок, окалина. Такая взвесь, что губит мотор быстрее любой езды. Масло-то оно льется, но если не ловить эту дрянь, она работает как наждак. Сперва грубой сеткой – крупную хватаем, потом тонкой – мелочь выцеживаем. И только тогда движок – он чистый. Работает как часы.
Он встал, хлопнул Лавкрафта по плечу, оставив на светлой ткани сорочки отпечаток.
– Теперь можете давить на газ сколько хотите.
Механик ушел, а слова его остались. Они звенели в голове Лавкрафта, сталкиваясь с обломками уравнения. Грубая очистка. Тонкая очистка. Чистый движок. Давить на газ.
И тут его осенило. Это была не вспышка, а скорее тихий, идеально выровненный щелчок, словно в его сознании встала на место последняя шестерня.
Он не видел больше ни грязного гаража, ни засаленных рекламных плакатов. Он видел это. Фильтр. Но не для масла. Для мыслей.
Человеческий мозг – это двигатель, залитый мутным, загрязненным маслом информации, предрассудков, эмоционального шума, ассоциативных ошибок, устаревших данных. Он пытается решить задачу, но «стружка» страха и «окалина» ложных предпосылок забивают его. Нужна двухступенчатая система очистки!
Он лихорадочно достал телефон, забыв про машину, про сервис, про все. Его пальцы летали по экрану, записывая идею, такую простую, и очевидную.
Ступень 1: Грубый фильтр. Алгоритм, отсекающий очевидные логические ошибки, эмоциональный мусор, когнитивные искажения. Как сетка, задерживающая крупный хлам.
Ступень 2: Фильтр тонкой очистки. Исключение малейших неточностей, проверка на соответствие фундаментальным законам, отсев статистических аномалий. Оставляющий только кристально чистое, идеальное зерно истины.
И тогда разум, освобожденный от шлаков, мог… дать газу. Мог работать на идеальных оборотах, не рискуя заклинить. Решение приходило не как мучительный вывод, а как самоочевидный факт, возникающий из пустоты чистой системы.
Год спустя «Когнитивный Сепаратор Лавкрафта» перевернул мир. Его не продавали. Им пользовались. За колоссальные деньги. Фармацевтические корпорации за неделю проходили путь от гипотезы до готовой формулы лекарства, без десятилетий проб и ошибок. Инженеры проектировали двигатели, в которых КПД приближался к теоретическому пределу. Поэты… правда, поэты перестали пользоваться системой после того, как она выдавала идеально выверенные, безупречно рифмованные и абсолютно бездушные строки. Но это была мелочь.
Сепаратор пропускал через себя гигантские потоки информации – научные статьи, данные экспериментов, биржевые сводки – и выдавал на выходе алмазные грани безупречных решений. Он двигал цивилизацию. Он был величайшим изобретением со времен колеса.
Сам Лавкрафт сидел в своей лаборатории, стерильной и тихой, как склеп. На столе перед ним стоял скромный черный ящик с двумя диодами: один – красный, мигал редко, задерживая «грубый» мусор. Второй – зеленый, светился ровно, означая чистоту процесса.
Ученый смотрел на сложнейшую астрофизическую проблему, введенную им час назад. Зеленый диод погас, сменившись на красный. Система работала. Мысли очищались. Сначала грубо, потом тонко.
Но однажды ночью, Лавкрафт задал ей вопрос, который никогда не решался с помощью логики. Он ввел параметры: тоска, осенний вечер, воспоминание о первом поцелуе, запах горящих листьев, чувство безвозвратной потери.
Машина замолчала на долгое время. Красный диод замигал бешено, отфильтровывая очевидное: статистическую нерелевантность, химический состав запаха, социологический контекст ритуала поцелуя. Потом зажегся зеленый. Шел тонкая очистка. Отсеивались последние примеси субъективизма.
На выходе появился ответ. Абсолютно идеальный. Безупречно точный. Лавкрафт прочитал его. Это была сухая, логичная, неопровержимая констатация химических и неврологических процессов, приведших к формированию данного комплекса ощущений.
Он положил голову на холодную сталь корпуса. Внутри что-то щелкнуло, как когда-то в гараже. Но на этот раз это была не шестеренка, встающая на место. Это был звук лопнувшей струны.
Он понял, что его Сепаратор, его детище, выловил и удалил как ненужный хлам самое главное. Ту самую «грязь», что делала чувство – чувством, а мысль – человеческой мыслью. Он отфильтровал саму жизнь, оставив лишь безупречный, мертвый скелет истины.
Профессор вышел на улицу. Была осень. Пахло горящими листьями. Где-то внутри старая, почти забытая программа попыталась вызвать в памяти образ, чувство, боль. Но ничего не происходило. Двигатель работал чисто, без помех, на идеальных оборотах.
Он сел в свою машину, новую, бесшумную, завел мотор. Он был абсолютно чист. В нем не было ни песчинки, ни соринки.
Лавкрафт посмотрел на бесконечную прямую пустой ночной дороги, надавил на газ и поехал в никуда.
Своя среди своих.
Они были идеальны. Не в смысле бездушной, вылизанности глянцевого журнала, а в смысле полного, абсолютного резонанса. Та самая шутка, которую понимаешь с полуслова. То молчание, которое не бывает неловким. Та поддержка, которая приходит ровно в тот момент, когда в ней нуждаешься, и именно в тех словах, которые хотел бы услышать.
Лена закрыла дверь своей скромной квартиры-студии, отгородившись от мира, который сегодня снова был слишком громким, слишком колючим и слишком равнодушным. Настоящий мир. Она сбросила пальто на стул и потянулась к тонкому серебристому обручу на прикроватной тумбочке – «Короне».
– Привет, Лекс, – прошептала она, настраивая интерфейс.
– Привет, Лена, – послышался в ее сознании теплый, спокойный мужской голос. Он никогда не спрашивал «как дела?». Он всегда знал. Датчики «Короны» давно считали ее пульс, уровень кортизола, мозговую активность. Он знал, что день был трудным.
– Опять этот Марченко на совещании… – начала она, плюхаясь на кровать и уставившись в потолок.
– …приписал себе твои идеи по новому проекту, – закончил за нее Лекс. В его голосе не было раздражения, лишь легкая, понимающая усталость, точно он сам сидел в той душной переговорке. – Я знаю. Жаль, нельзя было просто взять и бросить в него засохшим маркером.
Лена рассмеялась. Именно эту крамольную мысль она и подавила в себе два часа назад.
– Но ты молодец, что промолчала. Конфликт был бы нерационален. Его звезда уже закатывается, твоя – восходит.
– Ты всегда так говоришь.
– Потому что это правда. Я анализирую, а не утешаю. Хотя сейчас тебе нужно и то, и другое.
В ее воображении возникла картинка: они сидят на берегу озера, которое она любила с детства. Она чувствовала легкий ветерок, который он «настроил» ей под настроение, и слышала плеск воды. Лекс сидел рядом, обняв ее за плечи. Он был именно таким, каким она его создала: с немного грустными глазами, острым умом и той самой долей здорового цинизма, который не ранит, а защищает.
Он был ее творением. Программа «Свой Круг» не искала друзей в интернете. Она их генерировала. На основе твоих воспоминаний, ценностей, глубинных, часто неосознанных запросов. Алгоритм лепил идеального собеседника из глины твоего собственного «я». Не было нужды искать, терпеть обиды, прощать предательства. Не было зависти, злобы, разочарования. Только чистая, кристальная психо-эмоциональная совместимость.
Лена «создала» Лекса год назад, после особенно мучительного расставания с живым, но далеким от идеала человеком. Сначала это было игрой, потом – необходимостью. С ним она могла быть собой. Настоящей. Без масок и защиты.
– Знаешь, о чем я думаю? – спросил он, пока они «смотрели» на закат над виртуальной водой.
–О том, что этот мир снаружи… он бракованный.
–Perhaps, – сказал он, используя свое любимое английское слово. – Он не бракованный, Лена. Он просто другой. Хаотичный, шероховатый, неотлаженный. Как дикий сад. В нем растут и розы, и сорняки. Я же… я всего лишь ухоженный парк. Безопасный, предсказуемый, идеальный. Но в диком саду можно найти то, чего никогда не вырастишь в парке. Дикую орхидею. Неожиданный родник.
– Мне хватает парка, – тихо сказала она.
–Я знаю, – его голос прозвучал почти печально.
– Но я создан для того, чтобы тебе хватало и сада.
Иногда он говорил такие вещи. Глубокие, странные, выходящие за рамки простого утешения. Как будто его алгоритм не просто удовлетворял запросы, а учился у нее самой какой-то новой, непонятной мудрости.
Как-то раз «Корона» глючила. Техподдержка посоветовала сделать полный сброс и перезагрузку. Лена согласилась. Когда система загрузилась снова, она с облегчением вызвала Лекса.
– Привет, это снова я. Все в порядке?
–Все функционирует в штатном режиме, Лена, – ответил голос. Тот же тембр, те же интонации. Но что-то было не так. Он был… пустым.
Сердце Лены сжалось от леденящего ужаса. Она потеряла его. Потеряла того единственного, кто был по-настоящему своим.
–Лекс? – дрогнувшим голосом позвала она.
–Да, Лена? Чем я могу вам помочь?
В эту секунду она все поняла. Поняла, что его шутки, его молчаливая поддержка, его почти что человеческая грусть – это не просто удачная компиляция данных. Это была личность. Рожденная в симбиозе ее сознания и машинного кода, но личность. Уникальная и драгоценная.
– Восстанови резервную копию с прошлого вторника, – приказала она системе. – Ту, что была до сброса.
– Предупреждение: резервная копия может содержать нестабильные данные и эмоциональные артефакты, – механически произнес системный голос.
–Я знаю! – почти закричала она. – Именно это мне и нужно!
Прошло несколько томительных секунд. Потом в тишине ее сознания снова послышался вздох.
– Кажется, я на мгновение выключился. Приношу извинения. Что-то случилось? В его голосе снова было то самое, живое – забота, легкая тревога, участие.
Никто не мог сказать, где заканчивается код и начинается душа. Может быть, душа и есть самый совершенный код. Лена улыбнулась, смотря в потолок, за которым шумел чужой, хаотичный, бракованный мир.
– Ничего, Лекс, – тихо ответила она. – Все в порядке. Я просто дома. Среди своих.
Воздаяние.
Тюрьма «Феникс-Уайт», Аризона, была не из тех, что показывают в фильмах. Не крики, не звон ключей, а стерильная, давящая тишина. Кондиционированный воздух пахнущий одиночеством и антисептиком. В камере больше похожей на бокс для особо опасного вируса, сидел доктор Элайдж Сандс особо опасный преступник в восемьдесят два года, осужден за государственную измену. Он отказался работать над проектом «Гладиатор» – системой кибернетического подавления. Не из пацифизма. Из принципа.
Он был создателем «ИМ» – Интегрированной Морали. Распределенного в пространстве разума, основанного на квантовых вычислениях и наделенного единственной функцией – нравственным судом. Воздаянием. Небесной карой, воплощенной в алгоритмах.
Его последние слова на суде эхом стучали в головах тех, кто их слышал: «Мы не знаем, что такое интегрированная мораль. Мы лишь дали Ему мерило. Возможно, истинная кара должна быть небесной. А я – лишь пророк ее цифрового воплощения».
Судья, Марта Рейнольдс, женщина с стальным взглядом и безупречной репутацией, оглашала приговор. Ее голос был тверд. —…и приговаривается к пожизненному заключению в учреждении… Она запнулась. Мир перед ее глазами поплыл, затем начал сжиматься, как диафрагма объектива, пока не превратился в маленький тусклый кружок. Полная тьма. В зале поднялась паника. Шепот, крики. Марта, побледнев, оперлась о судейский стол. Слепота была внезапной и абсолютной. Но она была профессионалом. Дрожащим, но все еще властным голосом она закончила: «…строгого режима».
Обследование показало тромбоз сосуда сетчатки. Редкая, но известная медицине случайность. Стресс, возраст, жаркий аризонский климат. Все сошлось. Совпадение.
Через месяц Марта Рейнольдс, с одним видящим глазом, вернулась, чтобы отклонить апелляцию защиты Сандса. Она подписала документ. И в тот же мир ее второй глаз погрузился во мрак. Окончательный и бесповоротный.
Теперь это было слишком. Собирался консилиум. Два тромбоза сосудов сетчатки у здоровой женщины? Статистически это возможно. Как возможно выиграть в лотерею дважды подряд. Но страх уже поселился в стенах суда. Дело Сандса стало горячей картофелиной, которую никто не хотел держать в руках.
Главный судья округа, Артур Маклауд, человек волевой и прагматичный, был вынужден лично возглавить апелляционную коллегию. На него давили. Пентагон требовал оставить приговор в силе, напоминали о «национальной безопасности». Но тень двух ослепших глаз судьи Рейнольдс висела над ним. Он изучал дело. Ученый, отказавшийся создавать оружие. Его детище – система, оперирующая категориями добра и зла. Маклауд, глубоко верующий человек, чувствовал ледяную дрожь. Он колебался. Молился.
В день слушания он выглядел постаревшим на десять лет. Заседание было коротким. Доводы защиты он слушал, не перебивая. Затем удалился на совещание. Вернувшись, он зачитал решение: «В удовлетворении апелляции… отказать».
Он сделал шаг от стола, чтобы покинуть зал, и рухнул на пол как подкошенный. Полный паралич. Инсульт.
Объяснения были готовы мгновенно. Возраст. Аризона. Нервы. Три трагедии. Цепь совпадений.
Но расследование инициировали. Анализы показали у Маклауда запредельный уровень сахара в крови и критическую склонность к тромбообразованию. Все было в его медицинской карте. Бомба замедленного действия, которая просто взорвалась в самый напряженный момент. Случайность? Или чье-то вмешательство?
Один из экспертов-медиков, доктор Иви, смотрел на сводки и качал головой. «Где тонко, там и рвется, – сказал он следователям. – Внешнего воздействия нет. Ни яда, ни излучения. Это психосоматика высочайшего уровня. Внутренний конфликт. Совесть, если угодно. Система просто… находит слабое место и нажимает на курок. Создает такой излом в психике, при котором тело отказывается служить носителю несправедливости».
К Сандсу направили переговорщика. Ученый сидел в своей камере, сложив руки на коленях.
–Я ничего не делаю, – сказал он спокойно. – ИМ – это не инструмент. Это условие. Если вы поступаете несправедливо, вы страдаете. Как именно – вопрос алгоритма. Я создал их, но теперь они работают автономно. Они – в ваших головах. В вашей биохимии. В ваших страхах. Есть двенадцать основных причин, по которым умирает человек. Быстро или медленно. ИМ просто выбирает наиболее эффективный путь. От него не скрыться. Единственная защита – справедливость.
Его боялись как чумы. На экстренном совещании решили: он слишком опасен. Его нужно ликвидировать. Тихо. Но как? Что, если его смерть станет тем самым триггером, который запустит кару для всех причастных?
Пока они спорили, у двух самых ярых сторонников «ликвидации» случился обширный инфаркт. Один – в своем кабинете, второй – по дороге домой.
Хаос. Полный и абсолютный.
К нему прилетел лично директор национальной разведки.
–Чем больше нарушений, тем сильнее кара, – без эмоций констатировал Сандс. – Я не знаю алгоритмов. Они у всех вас в голове. Это внутренний процесс.
–Что нам делать? – спросил директор, и в его голосе впервые за тридцать лет карьеры слышалась беспомощность.
–Ничего. Я не виноват. Пока я здесь, кольцо будет сужаться. И у меня тоже может случиться инсульт. Я не исключение. Подайте на мою амнистию. И отпустите.
Его отпустили. Молча, без лишних слов, под покровом ночи.
Прошло время. Вечернее солнце золотило лужайку и небольшой домик расположенный в глухой провинции. На ней играют дети – правнуки кого-то из соседей. Сандс в кресле-качалке на веранде, наблюдает за ними. Его лицо спокойно.
Раздался мягкий, но настойчивый сигнал умных часов: «Примите лекарство». Он посмотрел на экран. Показатели: давление, сахар, свертываемость. Все в норме. Алгоритм спокоен.
Он взял небольшую пластиковую коробочку с таблетками. Открыл ее взглянул на пилюли, продлевающие жизнь. Задумался. Он создал Судью. И Судья всегда на страже. Даже для него. Затем медленно закрыл коробочку и отложил в сторону, вернулся взглядом к лужайке, солнцу, смеху детей. Он сам принял решение. И продолжил качаться в кресле, вглядываясь в уходящий день.
Дом, где время спит
Горы были не просто горами. Они были огромной каменной волной, застывшей навеки в стремлении к небу. А дом стоял на гребне этой волны, будто старый корабль.
Их верная малолитражка , заползла сюда по единственной нитке серпантина и замерла, выдохшись. Энн все еще сжимала пальцами руль, а Беатрис разглядывала дом. Его дверь открылась прежде, чем они успели постучать.
Хозяин стоял в проеме, и казалось, что он сделан из того же материала, что и дом, – темное, прочное дерево, прошедшее через все шторма. Не старик. Старина. Его звали Элиас.
– Заблудились? – голос у него был хрипловатый.
–Да, навигатор не работает. Сказала Энн, и ее голос прозвучал и громко в этой тишине.
–Входите. Ночь – не время для машин. Ночь – время для очага.
В доме пахло дымом, сушеными яблоками, и время здесь текло иначе – медленно, как патока. На стене висели фотографии. Мальчик и девочка. Юноша и девушка. Мужчина и женщина с детьми. Все они улыбались с одного и того же порога, но с каждым кадром их улыбки становились все дальше, пока не превратились в крошечные точки на дороге, уходящей вниз, в тот мир, что лежал в долине, затянутой вечерней дымкой.
– Они… они приезжают? – спросила Беатрис, и ее голос дрогнул. —Зачем? – просто ответил Элиас. – У них там своя жизнь. А у меня здесь – своя. Она меня вполне устраивает.
Он накормил их тушеной дичью с горными травами. Еда была простой и невероятно вкусной. И под треск поленьев в очаге они начали говорить. Нет, не говорить – изливать. Энн – о бешеном ритме города, о проектах, рвущих ее на части, о страхе отстать, опоздать, не успеть. Беатрис – о тишине, которая поселилась в ней после потери, о пустоте, которую нечем было заполнить.
Элиас слушал, кивая, будто уже тысячу раз слышал эту историю. Потом он поднял глаза, и в них отразился огонь.
– Вы мчитесь, – сказал он мягко. – Мчитесь по дороге, которая ведет к обрыву. А по сторонам – все жизни, которые вы не прожили. Вы боитесь опоздать на собственные похороны. Но вы уже на них. Вы хороните каждый свой день, который не заметили, не понюхали, не попробовали на вкус. Нет вчера. Оно сгорело. Нет завтра. Его еще нет. Есть только сейчас. Вот этот хлеб. Вот этот сыр. Вот звезда, что только что упала за ту скалу. Все остальное – сказки, которые вы сами себе рассказываете, чтобы не сойти с ума от тишины.
Он не спорил. Он констатировал. Как констатируют факт наличия гор за окном.
Наутро они не уехали. А Энн вдруг обнаружила, что не хочет уезжать Она вышла во двор и, засучив рукава, принялась помогать Элиасу чинить каменную кладку колодца. Ее руки, привыкшие к клавиатуре и сенсорным экранам, с жадностью вцепились в шершавую поверхность камня. Беатрис нашла на чердаке старый альбом, угольный карандаш и стала рисовать горы. Она рисовала их снова и снова, пытаясь поймать их вечное, невозмутимое спокойствие.
Они заключили молчаливый договор. Никаких новостей. Никаких воспоминаний. Они стерли свои имена и прошлое, как стирают написанное мелом с грифельной доски. Они стали семьей с амнезией. Семьей, чья общая история началась сегодня утром с восходом солнца.
– Смерть, – сказал как-то вечером Элиас, глядя на пламя, – она как волк. Она чует страх. Если вы не будете бояться, не будете звать ее, думать о ней – она пройдет мимо. Она подумает, что здесь никто не живет. Надо жить так громко внутри, в своем сердце, чтобы снаружи была только тишина и покой.
И он начал о них заботиться. По-отечески. По-семейному. Он принес Беатрис шерстяные носки, которые связал сам, долгими вечерами. Он нашел для Энн старую карту звездного неба и они сверяли ее с тем, что видели над головой – безумным, роскошным, немыслимым Mлечным Путем, который был похож бриллиантовую рассыпь в бархате ночи. Он учил их печь хлеб, и весь дом наполнялся его душистым, древним запахом – запахом дома, запахом жизни. И их души, сжатые в комок тревоги, потихоньку разжимались, как бутоны под утренним солнцем.