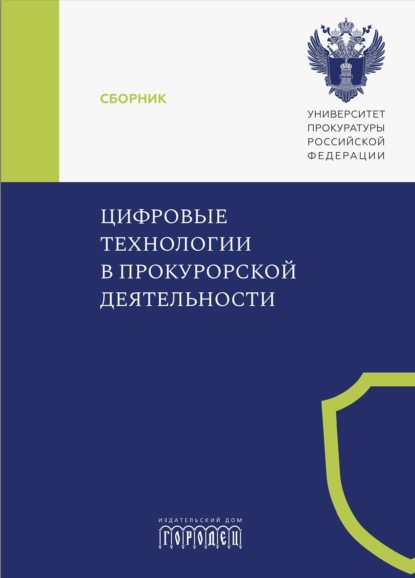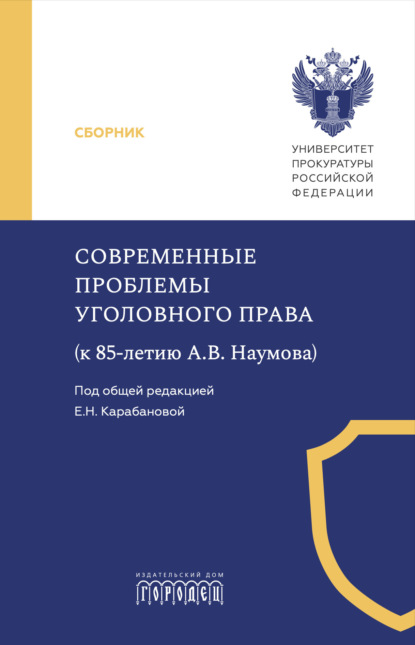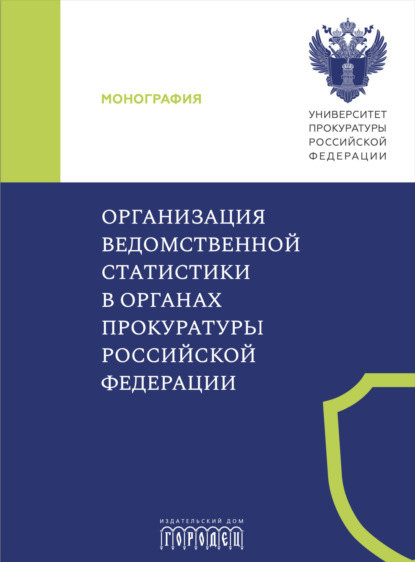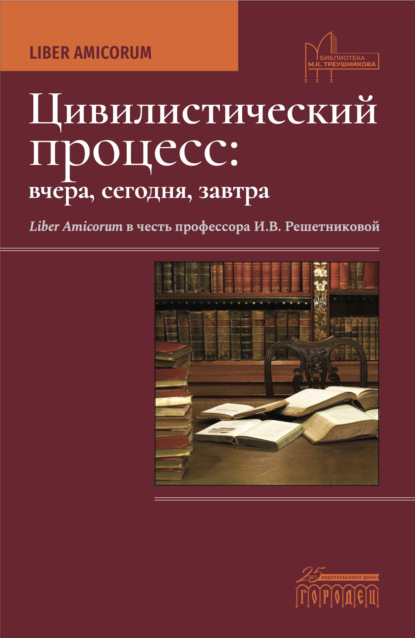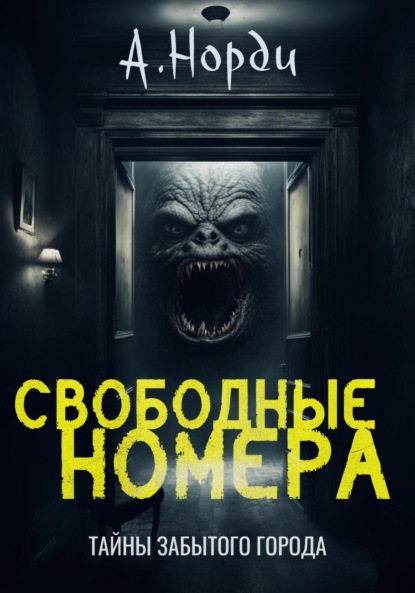Раскрытие доказательств в гражданском процессе США
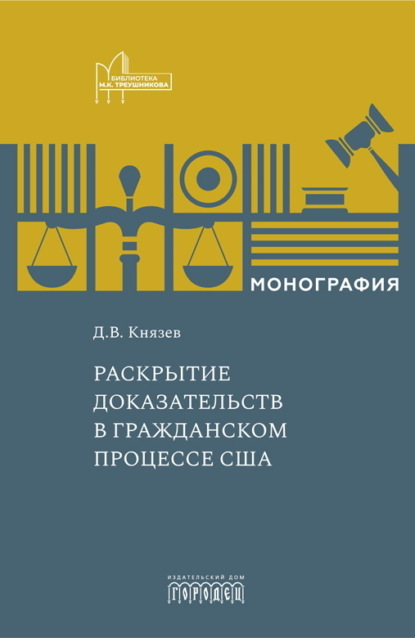
- -
- 100%
- +
Несмотря на преобладающую в судах штатов тенденцию к объединению права и справедливости, федеральные суды по-прежнему были вынуждены вести судопроизводство по разным правилам. Жесткое разделение между правом и справедливостью не допускало смешения соответствующих способов защиты. Если истец выбирал неправильный способ защиты, он терял право на нее. В делах, рассматриваемых по нормам права, было невозможно использовать процессуальные инструменты справедливости, и наоборот – в делах справедливости стороны не могли прибегать к средствам, применяемым в процессах по праву.
Такое положение вещей крайне негативно сказывалось на доступности судебной защиты. Принятый в 1915 г. Акт о праве и справедливости[20] установил, что, если суд выявит, что иск, поданный на основании норм права, должен рассматриваться по справедливости (или наоборот), он дает сторонам указания совершить необходимые действия для приведения процедуры в соответствие с надлежащей практикой. Стороны получили право на любом этапе процесса дополнить свои требования или возражения, чтобы избежать отказа в рассмотрении иска из-за ошибочной формы обращения в суд. Кроме того, в делах, рассматриваемых по нормам права, стало возможным использование средств защиты, присущих суду справедливости. В случае апелляционного пересмотра суд получил право руководствоваться как нормами права, так и принципами справедливости – в зависимости от обстоятельств дела.
Однако, по свидетельству Ч. Кларка, несмотря на то, что Федеральные правила справедливости 1912 г. и Акт о праве и справедливости 1915 г. создали своеобразный союз права и справедливости (иски свободно передавались из одного подразделения в другое, способы защиты по справедливости допускались по искам права) сложности с применением правила соответствия (применение федеральными судами по делам из общего права правил соответствующего штата) еще более увеличились. По-прежнему суды вынуждены были по делам права переходить к процедуре штата, а по делам справедливости следовать собственной процедуре. Все это в итоге приводило лишь к «проблемам, судебной дороговизне и волоките»[21].
Ситуация еще более осложнялась отсутствием единых правил изложения исковых требований и доказывания. В некоторых штатах действовали «кодексы» (code pleading), в других сохранялись элементы старой системы (common law forms of action). В результате сама логика предъявления иска могла сильно различаться не только между штатами, но и при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции и судах по делам equity. Это вело к множеству процессуальных ловушек, в которые могли попасть даже опытные адвокаты, и нередко становилось основанием для затягивания разбирательств или отмены решений по формальным причинам. Тяжущиеся вынуждены были либо крайне тщательно следовать сложным правилам, либо соглашаться на уступки, чтобы избежать рисков процессуальных ошибок.
К названным проблемам добавлялась необходимость упрощения правового языка и формулировок. Старые процессуальные нормы были громоздкими, излишне формализованными и трудными для понимания даже для юристов. Введение более простых и понятных правил должно было улучшить доступ граждан к правосудию и сделать судебные процессы менее затратными и более оперативными.
Таким образом, проблема отсутствия единых правил судопроизводства в федеральных судах была одной из ключевых в рассматриваемый период времени.
Стоит отметить, однако, что у единых правил судопроизводства были и противники, которые приводили свои аргументы. В частности, они указывали, что случаев, когда судьи не следовали Акту о соответствии было совсем немного и это были скорее исключения, поэтому акт о соответствии прекрасно работал, необходимости в его упразднении не было; страна и различия между штатами слишком велики, поэтому создать единые правила для всех будет затруднительно, а сложившаяся правовая культура гораздо важнее некоего единства[22].
Сложные правила обмена состязательными бумагами (pleadings). До принятия Федеральных правил гражданского процесса (ФПГП) подача искового заявления была чрезмерно формализованной и сложной. Судебный процесс требовал строгого соблюдения установленных форм и правил, а любое отклонение от них могло привести к отказу в рассмотрении дела уже на начальной стадии. Такие требования создавали преимущество для юридически подкованных участников и затрудняли доступ к правосудию для менее опытных истцов, не обладающих глубокими знаниями процессуальных норм.
Плидирование представляло собой этап подачи искового заявления и ответов на него. До введения ФПГП этот процесс основывался на строгих формальных правилах, уходящих корнями в английское общее право. На протяжении многих десятилетий американская судебная система использовала две основные модели плидирования: плидирование по правилам общего права (common law pleading) и плидирование по кодексам (code pleading).
Основная цель плидирования заключалась в точном формулировании вопросов, которые предстояло решить суду. Это требовало от сторон не только детального изложения фактических обстоятельств дела, но и четкого юридического обоснования своих требований и возражений. Любая ошибка на стадии плидирования – неправильное оформление искового заявления или некорректное использование юридических терминов – могла привести к отказу в рассмотрении дела. Поэтому соблюдение формальных требований требовало от адвокатов исключительной точности. Если иск не соответствовал установленным правилам, суд мог отклонить его без изучения сути спора. Более того, ответчик мог подать ходатайство о прекращении производства по делу, если обнаруживал в иске процессуальные ошибки. В результате значительная часть дел завершалась еще до начала разбирательства, на этапе обсуждения формальностей.
Сложность и формальность плидирования создавали трудности как для участников процесса, так и для судей. Истцы и ответчики вынуждены были прилагать значительные усилия, чтобы избежать ошибок при подаче документов, а сама подготовка исков занимала много времени. Формальные требования затрудняли доступ к правосудию для граждан, не имеющих юридического образования. В то же время профессиональные юристы и опытные участники судопроизводства обладали значительным преимуществом перед теми, кто не знал всех тонкостей формальных процедур. Судьи и адвокаты должны были строго следовать установленным классификациям и формулировкам правонарушений, что ограничивало возможности сторон в изложении фактических обстоятельств. Это нередко приводило к искусственным спорам о юридической квалификации действий сторон, отвлекая внимание от существа дела.
Таким образом, в рассматриваемый период правильное плидирование играло решающую роль в судьбе иска: его оформление определяло, будет ли дело принято к рассмотрению. По сути, институт плидирования до реформы являлся препятствием на пути к быстрому и справедливому правосудию. Он акцентировал внимание на формальных аспектах и юридической аргументации, а не на реальных обстоятельствах дела. Это порождало многочисленные юридические баталии, сосредоточенные не столько на разрешении самого спора, сколько на процессуальных формальностях[23].
Раскрытие доказательств. Раскрытие доказательств до судебного заседания в основном базировалось на правилах и традициях, пришедших из английского общего права, где процессуальные нормы уделяли гораздо больше внимания защите конфиденциальности и стратегическим интересам сторон. По свидетельству С. Субрина, исторически сложилось так, что возможности раскрытия доказательств были крайне ограничены как в Англии, так и в Соединенных Штатах[24]. Раскрытие доказательств регулировалось либо нормами судов справедливости, либо процессуальными правилами отдельных штатов, что оставляло большую часть фактических обстоятельств дела скрытой до начала судебного разбирательства, затрудняло подготовку сторон и способствовало неожиданностям в ходе процесса[25]. В результате возможности раскрытия доказательств были ограничены, а стороны могли скрывать доказательства до момента судебного заседания, что часто использовалось как тактическое преимущество.
Поскольку ни одна из сторон не была обязана раскрывать доказательства до начала судебного разбирательства, процесс до судебного разбирательства был своеобразной «игрой вслепую», что давало одной стороне значительное тактическое преимущество, особенно если она располагала критическими доказательствами, о которых другая сторона не знала. Например, ответчик мог скрывать документы, которые подтверждали его вину или нарушение прав истца, до тех пор, пока не придет момент их раскрытия в ходе судебного слушания. Это позволяло выиграть время и подготовиться к возможным возражениям на основании неожиданных для оппонента фактов. В связи с этим многие споры решались больше на основе юридических маневров и формальностей, нежели на основе реальных фактов дела. Юристы, которые умели лучше использовать процессуальные правила и скрывать информацию, получали преимущество.
Из-за названных ограничений судопроизводство превращалось в борьбу за процессуальные преимущества с использованием тактических уловок. Юристы тратили много времени и усилий на то, чтобы выстроить свои позиции вокруг процессуальных аспектов, нежели на представление реальных доказательств и аргументов по существу дела, а суды выносили решения на основании процедурных ошибок или отсутствия доказательств, которые были скрыты или недоступны для одной из сторон. Чаще процесс выигрывала сторона, обладавшая большими ресурсами и лучшей подготовкой. Крупные компании или влиятельные ответчики могли скрывать критически важные документы, а более слабая сторона не имела возможности их истребовать.
В общем праве изначально не существовало положений о раскрытии доказательств, поскольку состязательная система судопроизводства позволяла каждой стороне вести процесс «на дистанции», отказываясь предоставлять информацию или доказательства, находящиеся в ее распоряжении. На протяжении многих лет единственным источником информации до начала судебного разбирательства оставались письменные состязательные бумаги[26].
Парадоксально, но основным инструментом для получения доказательств для процесса в рамках права (law) оставался являлся иск в суде справедливости (bill in equity). Иначе говоря, для того чтобы получить доказательства, необходимые для дела, рассматриваемого по общему праву, лицу требовалось обратиться с самостоятельным иском в суд справедливости. Этот инструмент использовался для получения признания, доступа к земельным участкам, но применялся исключительно к сторонам процесса, за исключением редких случаев, когда требовалось раскрытие информации от представителей или агентов сторон. В процессе по общему праву свидетели не могли давать показания, что, очевидно, затрудняло доступ к важной информации. Указанный иск в суде справедливости использовался для обхода этого ограничения. В таком случае ответчик под присягой отвечал на утверждения истца. Со временем стало обычной практикой прилагать к таким искам списки вопросов (interrogatories), и получение доказательств стало неотъемлемой частью судебного процесса. Постепенно названные списки вопросов эволюционировали в самостоятельный правовой инструмент – так называемый чистый иск об истребовании доказательств (pure bill of discovery), который мог использоваться в качестве вспомогательного средства для подготовки к разбирательству в суде общего права[27].
По утверждению Дж. Рагланда в общих судах также использовались ходатайства о подробном изложении (bill of particulars) и ходатайства об истребовании доказательств (bill of discovery). Эти процессуальные инструменты позволяли преодолеть недостатки традиционной системы судопроизводства в судах общего права, в которой письменные заявления сторон зачастую не раскрывали достаточных фактических подробностей дела. Bill of particulars использовался для уточнения общего содержания искового заявления. Ответчик мог обратиться в суд с требованием представить в письменной форме подробности иска, и, если истец не выполнял это требование, суд мог приостановить производство по делу или исключить соответствующую часть состязательной бумаги. Bill of discovery возник в практике судов справедливости и предоставлял возможность одной стороне обязать другую раскрыть существенные для дела факты и документы. Так суд справедливости мог обязать сторону раскрыть доказательства, которые были необходимы для ведения дела в суде общего права[28].
Кодекс Филда ввел две формы досудебного раскрытия доказательств: письменные вопросы (written interrogatories) и устный допрос (oral examination). В первых истец или ответчик направляли противоположной стороне перечень вопросов, на которые требовалось ответить под присягой. Устный допрос позволял адвокату лично задать вопросы стороне или свидетелю, ответы фиксировались. Обе формы раскрытия служили не только для установления фактов, но и для сохранения информации на случай смерти или недоступности свидетеля[29]. Постепенно практика досудебного раскрытия доказательств распространилась на другие штаты США, хотя степень ее применения варьировалась. В одних штатах были приняты аналогичные нормы о допросе сторон до суда, в других процедура оставалась более ограниченной: в некоторых юрисдикциях устный допрос был разрешен только в случае ожидаемой недоступности свидетеля во время разбирательства, тогда как в других штатах его можно было проводить без таких ограничений.
Особую роль в процессе раскрытия доказательств сыграла процедура дачи показаний (depositions), которая изначально использовалась для сохранения показаний свидетеля, находившегося за пределами юрисдикции суда или ожидавшего смерти. Со временем depositions стали использовать и для допроса сторон по делу, что позволило адвокатам заранее узнавать позицию противоположной стороны и подготовиться к опровержению ее доводов. Несмотря на критику со стороны некоторых юристов, считавших подобное использование устных допросов чрезмерным вмешательством в процесс, практика доказала свою эффективность и была воспринята в ряде штатов, включая Огайо, Индиану, Техас, Миссури и Кентукки[30].
К моменту принятия ФПГП в большинстве штатов было разрешено использовать лишь некоторые из указанных процедур, причем их применение строго ограничивалось. Например, только в семи штатах допускалось проведение допросов в форме depositions, при этом действовали ограничения на их использование. В четырех из этих семи штатов устный допрос должен был проводиться в присутствии судьи, который выносил решения по процессуальным возражениям[31].
Таким образом, к моменту принятия ФПГП американская судебная система сохраняла устаревшее разделение на общее право и право справедливости, что приводило к сложностям в применении правовых норм и к значительным различиям в судопроизводстве между штатами. Судебный акт 1789 г. закрепил необходимость следования федеральными судами процессуальным нормам штатов, однако это привело к разрозненности процедур и непредсказуемости правоприменения. Попытки реформ, такие как Кодекс Филда 1848 г. и Акт о соответствии 1872 г., были направлены на упрощение и унификацию процесса, однако в итоге только усугубили ситуацию, так как федеральные суды вынуждены были адаптироваться к разным правилам в зависимости от штата, а также учитывать специфические исключения. Введение отдельных Федеральных правил справедливости в 1912 г. и Акта о праве и справедливости 1915 г. не решило проблему, поскольку судопроизводство оставалось раздробленным, а процессуальные нормы – запутанными и громоздкими.
Отсутствие единых правил затрудняло доступ к правосудию, повышало судебные расходы и создавало процессуальные ловушки даже для опытных юристов. Особую проблему представляло раскрытие доказательств, поскольку правила, унаследованные от английского общего права, ограничивали возможность сторон заранее знакомиться с доказательственной базой друг друга. Это приводило к ситуации, когда исход дела зависел не столько от фактических обстоятельств, сколько от процессуальных маневров и тактики сокрытия информации. К началу XX в. стало очевидно, что необходимы единые процессуальные нормы, обеспечивающие прозрачность судопроизводства и доступность правосудия.
1.2. Федеральные правила гражданского процесса 1938 года: основные нововведения
Новые Федеральные правила произвели революцию в области гражданского судопроизводства. По замечанию А. Миллера, они представляли собой серьезный разрыв с системами общего права и права по кодексам. Несмотря на то, что составители правил сохранили многие предыдущие процессуальные традиции, Федеральные правила преобразовали гражданское судопроизводство, отразив ключевые принципы – доступ граждан к системе правосудия и вынесение решения по существу спора на основе полного раскрытия относящейся к делу информации[32]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
1 См.: Геннекен Э. Опыт построения научной критики: эстопсихология / Пер. Д. Струнина. 2-е изд. М., 2011. С. 5; Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике. Факты, цифры, наблюдения. СПб., 1895. С. 3–4; Белянин В.П. Психологическое литературоведение. Текст как отражение внутренних миров автора и читателя. М., 2006. С. 4–5; Он же. Психолингвистика. 4-е изд. М., 2016. С. 175.
2
Judiciary Act of 1789. URL: https://www.law.cornell.edu/wex/judiciary_act_of_1789#:~: text=The%20Judiciary%20Act%20of%201789, Congress%20sees%20fit% 20to%20establish.
3
Clark Ch.E. Fundamental Changes Effected by the New Federal Rules I // Tennessee Law Review. Vol. 15. 1939. no. 4. P. 559.
4
Нью-Йоркский кодекс 1848 г. послужил основой для принятия аналогичных процессуальных актов в Миссури в 1849 г., в Калифорнии в 1850 г., в Кентукки, Айове и Миннесоте в 1851 г., затем в течение 25 лет еще 24 штата. В 1925 г. штаты, в которых действовали аналогичные правила: Аляска (1900); Аризона (1864); Арканзас (1868); Калифорния (1850); Колорадо (1877); Коннектикут (1879); Индиана (1852); Айова (1851); Айдахо (1864); Канзас (1859); Кентукки (1851); Миннесота (1851); Миссури (1849); Монтана (1865); Небраска (1855); Невада (1860); Нью-Мексико (1897); Нью-Йорк (1848); Северная Каролина (1868); Северная Дакота (1862); Огайо (1853); Оклахома (1890); Орегон (1854); Южная Каролина (1870); Южная Дакота (1862); Юта (1870); Вашингтон (1854); Вайоминг (1869); Висконсин (1856); Порто Рико (1904) в общей сложности 28 штатов и две территории (Clark Ch.E. History, Systems and Functions of Pleading // Yale Law Journal. Vol. 11. 1937. no. 4. P. 534).
5
См. подробнее: Князев Д.В. Эволюция требований к содержанию искового заявления под давлением повышенной нагрузки на судебную систему США // Вестн. Том. гос. ун-та. 2020. № 457. С. 231–232.
6
Marcus R.L. The Revival of Fact Pleading Under the Federal Rules of Civil Procedure // Columbia Law Review. Vol. 86. 1986. no. 3. P. 438.
7
Schwartz A.R. Rational Pleading // Harvard Journal of Law & Public Policy. Vol. 33. 2010. no. 3. P. 1115.
8
Conformity act of 1872 – неофициальное название Акта об улучшении отправления правосудия (An Act to further the Administration of Justice of June 1, 1872), полный текст см.: URL: https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/42nd-congress/session-2/c42s2ch255.pdf.
9
Дословно секция 5 Акта устанавливала, что практика, плидирование, формы и методы судопроизводства, за исключением таковых по справедливости и морских дел, в окружных и районных судах Соединенных Штатов должны соответствовать настолько близко, насколько это возможно, практике, плидированию, формам и методам судопроизводства, существующим в этот момент по таким делам в судах записи того штата, на территории которого расположен федеральный суд.
10
Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Ч. 2: Гражданский процесс. М., 1958. С. 13.
11
Nudd v. Burrows, 91 U.S. 426, 441 (1875). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/91/426/.
12
Hutcheson E. The New Federal Rules of Civil Procedure [Part 1] // Washington Law Review. Vol. 13. 1938. no. 3. P. 203.
13
Perschbacher R.R., and Debra Lyn Bassett. The Revolution of 1938 and Its Discontents // Oklahoma Law Review. Vol. 61. 2008. no. 2. P. 282.
14
Clark Ch.E. The Proposed Federal Rules of Civil Procedure // American Bar Association Journal. Vol. 22. 1936. no. 7. P. 448.
15
Subrin S.N. Federal Rules, Local Rules, and State Rules: Uniformity, Divergence, and Emerging Procedural Patterns // University of Pennsylvania Law Review. Vol. 137. 1989. no. 6. P. 2002.
16
Niemeyer P.V. Revisiting the 1938 Rules Experiment // Washington and Lee Law Review. Vol. 71. 2014. no. 4. P. 2160–2162.
17
Clark Ch.E. Fundamental Changes Effected by the New Federal Rules I.P. 558.
18
Bunker R.E. The New Federal Equity Rules. Michigan Law Review. Vol. 11. no. 6. 1913. P. 438.
19
Bunker R.E. Op. cit. P. 442.
20
United States, Congress. An Act to Amend an Act Entitled “An Act to Codify, Revise, and Amend the Laws Relating to the Judiciary” // Approved March Third, Nineteen Hundred and Eleven. 3 Mar. 1915. Statutes at Large. Vol. 38. P. 956. URL: https://govtrackus.s3.amazonaws.com/legislink/pdf/stat/38/STATUTE-38-Pg956.pdf.
21
Clark Ch.E. The Proposed Federal Rules of Civil Procedure. P. 449.
22
Subrin S.N. Federal Rules, Local Rules… P. 2007.
23
См. подробнее: Князев Д.В. Плидирование по правилам общего права в гражданском процессе США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 4. С. 80–84.
24
Subrin S.N. Fishing Expeditions Allowed: The Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules // Boston College Law Review. Vol. 39. 1998. no. 3. P. 694–95.
25
Niemeyer P.V. Op. cit. P. 2164.
26
Flora C. It’s a Trap! The Ethical Dark Side of Requests for Admission // St. Mary’s Journal on Legal Malpractice & Ethics. 2018. Vol. 8. P. 10–11.
27
Rule 34(c) and Discovery of Nonparty Land // The Yale Law Journal. Vol. 85. 1975. no. 1. Nov. P. 114.
28
Ragland G., Jr. Discovery Before Trial. Chicago, 1932. P. 11–12.
29
Ibid. P. 25–26.
30
Ragland G. Jr. Op. cit. P. 21–23.
31
Cloud M. The 2000 Amendments to the Federal Discovery Rules and the Future of Adversarial Pretrial Litigation // Temple Law Review. Vol. 74. 2001. P. 31.
32
Miller A.R. From Conley to Twombly to Iqbal: A Double Play on the Federal Rules of Civil Procedure // Duke Law Journal. Vol. 60. 2010. no. 1. P. 3–4.