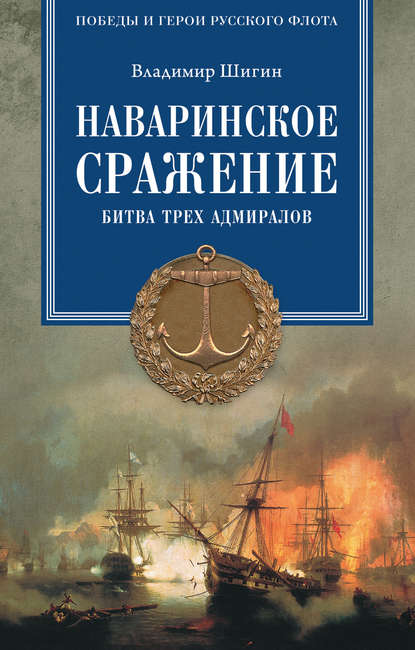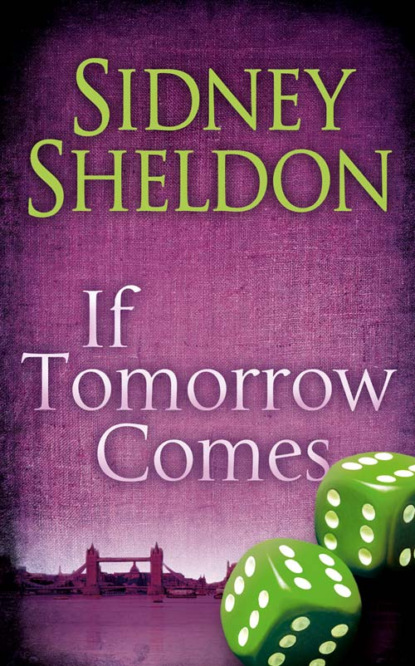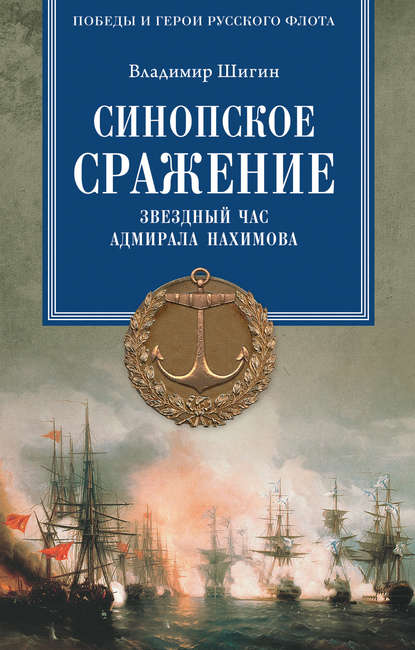- -
- 100%
- +
Любой советский человек знал с пеленок одну из главных заповедей, а именно: в нашей стране не соскучишься. Вот и в моей трудовой книжке есть записи на любой вкус, от аккумуляторщика до дирижера духового оркестра. И есть там такая популярнейшая запись, как слесарь-сантехник. Смена государственного строя в стране не только меня заставила сменить сцену на тепловую камеру и вантуз. (В поисках пропитания даже Вадим Мулерман работал таксистом. Правда, в Америке. Но тоже не сахар. Это тебе не «Ладу» на эстраде петь.) А начальником всех наших алкашей-сантехников был некто Геннадий Петрович, который, не гнушаясь, лез и в канаву, и в трубу, и к черту на рога. Мужик он был свойский. Звали его запросто даже Генкой. Остроумный до безумия! Даром что выправкой и лицом очень похож на молодого Юрия Никулина с довоенных фотографий великого артиста. И рассказчиком был таким же, как Юрий Владимирович. Заслушивались мы и умирали со смеху на перекурах.
И тут летом замутил я проект с выездом на курорты с сольными концертами, возобновив прерванные когда-то неразберихой в стране. И предложил я этому Гене подработать у меня шофером. Ничего не подозревая, я повел с ним откровенный деловой разговор, мол, подзаработаешь у меня. Пока идет концерт, часа полтора можешь поспать, и так далее. Шибко я тебя напрягать не буду. Заплачу достойно. Твое дело – крутить баранку. Барин этакий я, одним словом. И с барского плеча ему: можешь еще подзаработать – быть билетером, чтобы мне на месте не нанимать. Ничего не ответила рыбка. Только в гости пригласила: «Приходите сегодня, Саша, в гости с женой. Там и обсудим». Пришли мы. Познакомили жен. Выпили. Ну, что, споем? А гитара-то есть? Я свою не взял. Что-то не подумал. Есть. На, сыграй. Сыграл я. И спел. Добрынина на трех аккордах. А теперь можно я? Вытащил Гена из-за шкафа «комбик», усилитель маленький для домашних репетиций. Воткнул шнур. Установил микрофон. И как врезал! И «Битлов». И «Роллингов». И Элвиса Пресли. И много еще чего. Я сидел ошарашенный, с выпученными глазами, сгорая от стыда. И этому человеку я предложил быть у меня шофером (!) и билетером (!). Вот так ответил на мое предложение Геннадий Петрович. Я был в шоке! И ни разу мы не вернулись больше к этому разговору.
С этого момента мы подружились, и я узнал, что Гена работал в возрасте семнадцати лет лидер-гитаристом центрального ресторана «Баку» и имел высокую репутацию у самого Муслима Магомаева. Я видел их обшие фотографии. А там, ребята, надо играть! Одних лезгинок Гена знал штук тридцать: у каждой народности она своя, оказывается. Мы-то только две и знаем. Его и на КАТЭК-то занесло вместе со всеми «за туманом, за туманом». И стал он моим дядькой-наставником. Много ночных бесконечных разговоров мы с ним провели за бутылкой и даже без нее. О культуре, музыке, спорте и политике. Научил меня Гена играть в такую игру, как преферанс. Рубились мы с ним на равных в шахматы, а потом решили устроить «гамбурский счет». И было в жизни у меня два самых счастливых дня. Первый – когда я стал отцом в восьмидесятом. И второй – когда я выиграл у Геннадия Петровича шахматный матч по гамбурскому счету. И я не лукавлю, нет! Какой я тогда счастливый шел домой! Как в восьмидесятом году в последний день сентября. Не передать словами!
О его порядочности говорит эпизод, поразивший тогда меня тогда до безумия. Наша бригада выполнила левый заказ, калым, по-простому. А оплату в те годы задерживали. А потом я уволился и напрочь забыл, что я там работал вообще и как туда дверь открывается. И вдруг через полгода – звонок в дверь. На пороге Гена. Протягивает мне деньги: «Возьми свой гонорар». Какой гонорар? А помнишь, полгода назад… Оно б ему надо было? Пропили бы всей бригадой, и всех делов. Я бы и знать не знал. А вот. Вот в этом эпизоде весь Гена и был.
А потом, когда я опять вернулся на эстраду, на каком-то корпоративе в ресторане совершенно случайно мы встретились, и Гена взял в руки гитару и выдал! Нет, не «Роллингов» и не Пресли. И даже не «Битлз». Он спел «Клен». Тот самый, простой, на трех аккордах. «Там, где клё-о-он шуми-и-ит над речно-о-ой волно-о-ой». Никто не танцевал. Весь зал стоял завороженным. Казалось, что сам Сергей Дроздов стоит у микрофона на эстраде этого провинциального ресторана, так Гена вошел в образ. И превратился наш корпоратив тогда в творческий вечер Геннадия Петровича.
Гена будет единственным в моих записках, чье настоящее имя я с удовольствием и уважением называю полностью. Геннадий Петрович Бондаренко. В 2010 году в междугороднем автобусе в Красноярске я совершенно случайно встретил его жену Татьяну. Мой первый вопрос был, конечно, как там Гена. Никак, Саша. Гены больше нет. Ступор. Гром среди ясного неба. Сел я у окна и заплакал. Горько-горько, как не плакал уже целую вечность. С самого детства. Зарыдал, уткнувшись в дорожную сумку. Светлая тебе память, Петрович. Геннадий Петрович. Гена…
Ирина
А был в моей жизни еще один участник самодеятельности… Но по порядку.
И все-таки в практике КПСС были и жемчужные зерна. Был у них такой термин «бросать на прорыв». Спасать ту или иную жизненную ситуацию в стране. Передовика производства отправляли на зытюканный-занюханный завод – вытаскивать его в передовые. Или знатного агронома партия посылала в забытый богом совхоз с той же целью. Николая Дмитриевича партия отправила в очередной раз спасать очередную сельскую школу. Дали ему квартиру. Положили жалование. Спасай нас, товарищ директор! Привез он семью и молодую дочь, только что закончившую педучилище. И каким-то своим профессиональным нюхом директор нашего Дома культуры, легендарный Георгий Федорович, честь ему и хвала, учуял в ней вокальный талант. Где он с ней общался? Как про это узнал? До сих пор не знаю, но пришел к нам на репетицию. Предупредил: без шуточек чтобы. Без приколов ваших дурацких. Чтобы постригли-причесали свои патлы косматые. И чтоб ни запаха у меня! Прибью! Да мы уже недели две… Знаю я вас. Недели две они. На дурака рассказ. Значит, так. Завтра в 14.00. Зовут Ирочка, запомнили? Ну Ирочка да Ирочка. Мало ли их тут.
Апрель 1979 года. 14.00. Входит девушка. И какая! О мы забегали! Вот стул. Погодите, сейчас другой принесу, который не шатается. Вот микрофон. Этот лучше. Что споем? Она смущена, конечно. Из Пугачевой что-нибудь знаете? Чуть-чуть. Ну, хоть что-нибудь. И она запела. «За окном сентябрь провода качает. За окном с утра серый дождь стеной». Она поет. Серега играет. «Этим летом я встретилась с печалью». И такое состояние вдруг, что… Хочется сделать так, чтобы это никогда не закончилось. Чтобы вот оно было – и всё. Чтобы… Чтобы… Чтобы держать вот это всё на ладошке и не дышать. И чтобы никто не смог спугнуть это чудо. И ваш покорный слуга это сделал! Не спугнул. Не дышал. Удержал и сохранил. В ноябре у нас с этой Ирочкой состоялась свадьба! И пошли мы с ней рядом и по жизни, и по сцене, и по судьбе.
Мне сегодня седьмой десяток. Много чего я видел в жизни. И людей талантливых повидал не мало, но такого, чтобы вот так запросто на кухне у меня дома пела живая Пугачева. Или Марыля Родович. Или Лили Иванова. Но это было! Ирина пела на всех языках всех певиц мировой эстрады. На французском у нас на кухне пела Мирей Матье. На сербохорватском – Радмила Караклаич. И даже неведомая японка Наоко Каваи мне пела по ночам что-то свое, японское. И это всё на моих глазах! Не где-то там, в Москве или Париже, а здесь и сейчас. И настолько Ирина была скромной, что о ее таланте знал только я. Ее папа и мама обалдели, когда их двадцатилетняя дочь спела на нашем концерте «Звездное лето». В пугачевском балахоне! С такой же гривой волос! С такими же полетами по сцене! Я до сих пор помню выражение их лиц, когда они, сидя в первом ряду, не верили своим глазам. Как?! Это их Ирина?! Да такого быть не может!
Только я один знаю, как она ставила себе голос в глухом поселке с символическим названием Лесной, где ее папа выводил из прорыва очередную школу. Она запиралась в бане и пела в тазик. В тазик, господа! В простой цинковый тазик. Чтобы слышать свой голос. Это была вся ее «аппаратура». Вот где была ее судьба – в этом самом пении в тазик в деревенской бане. А не в педучилище.
Это только один из ее талантов. А как она пародировала всё, что видела и слышала! И очень этого стеснялась. Как я ее ни уговаривал, какие только тексты я ей ни писал, – нет! Так она и не вышла ни разу на сцену с пародиями на Пугачеву, Толкунову, Лайму или Пьеху. Никогда она этого не делала. Один раз только подшутила на какой-то «Юморине» над Кларой Румяновой, чем привела публику в неописуемый восторг. И лишь мне одному повезло видеть эти шедевры.
Она не любила шумные компании, и поэтому мы все праздники отмечали вдвоем. Дети спят, а мы на кухне. Чуть захмелев, Ирина поддавалась на мои уговоры, и шествовал передо мной по нашей маленькой кухне настоящий парад пародий. Ах, какие это были личности! Мирей Матье и Глория Гейнор. Мадонна и Эльза Фитцжеральд. И наши: Алла. София. Эдита. Жанна Агузарова. А потом еще по рюмочке и… И! И!!! Адриано Челентано с его неповторимой походкой из фильма «Блеф» помните? Это надо было видеть! А за ним: Муслим Магомедович. Иосиф Давыдович. Лев Валерьянович. Леонид Осипович. А после третьей рюмочки – родные и близкие. Музыканты из нашего ВИА. Соседи. Сослуживцы. И даже родители. И я всё это видел, друзья мои! Я самый счастливый зритель на свете. Я самый счастливый на свете фанат. Я самый счастливый человек. Я ви-дел всё!
Мы разучивали с ней самые-самые новинки нашей эстрады. На моей малой родине она стала первой исполнительницей песни «Миллион алых роз». Да-да! На какой-то ночной радиостанции я эту песню записал. Мы ее выучили. Тогда как раз входили в моду электробаяны – моя стихия. И на каком-то большом гала-концерте Ирина ее спела в переполненном зале. Народ не дышал. Кто-то, по их рассказам, пытался даже записывать за ней текст песни прямо в зале. А она пела! Это был фурор, без ложной скромности. Море цветов! И это в те годы. А только где-то через неделю по телевизору в каком-то шоу в Цирке на Цветном бульваре вышла Алла Борисовна и… «А Ирина наша спела лучше!» – хором говорили мне все родные, знакомые и коллеги. Вот что значит первое впечатление! Вот так мы утерли нос самой Пугачевой. А если серьезно, ее природная скромность да и наше пуританское воспитание не давала нам раскрепоститься, как это делает сейчас молодежь. И не наша это вина, а наша беда. Дети. Семья. Быт. Так и осталось всё это только в моей памяти.
Если человек талантлив, он талантлив во всем. В эту премудрость я верю безоговорочно. Отец мой был, кроме всего прочего, еще и первоклассный художник. Я даже помню его картины-репродукции в моем далеком-далеком детстве. «Утро в сосновом бору». «Витязь на распутье». «Аленушка». И через год после нашей с Ириной свадьбы я увидел на его столе рядом с шахматной доской рисунок-кадр из «Ну, погоди!». Один в один. Спросил, мол, чего ты вдруг? А это не я, сынок. Это невестка моя. Ее работа. Кто-о-о-о? Какая еще невестка? Моя невестка. Ты забыл, что ты женат? Я был в шоке. Так она еще и рисует?! Так я узнал еще про один талант Ирины. Через год после свадьбы!
Она не просто рисовала. Она оформляла все группы детского сада, в котором тогда работала. По детсадовским стенам скакали и прыгали все эти винни-пухи, зайцы – волки, царевны-лягушки, курочки рябы… Она изумительно копировала любой шарж из журнала «Крокодил». Однажды, так же ее немного подпоив на какой-то праздник, я увидел, как она минут за десять нарисовала на моих глазах четвертной. Двадцатипятирублевую купюру простой шариковой ручкой! И окончательно она меня добила, когда цветным мелком на стене детского сада нарисовала, не отрывая мелок от стенки, одним росчерком, силуэт котенка. левой рукой. Она рисовала с обеих рук! А это уже космос.
Я сейчас всё это пишу, и меня дрожь берет, а тогда… Один из ее талантов проявился в последние годы жизни. Ирина самоучкой освоила английский язык. Без Илоны Давыдовой и прочих кудесников, сама! И преподавала его, как и русский, кстати, в средней школе. Где-то там, на коллегии в Красноярске коренные британцы определили у нее какой-то ирландский говор. О как! И опять же. Только я один знаю, как она всё это покоряла по ночам. В ее характере главной чертой была основательность. За что бы она ни бралась, всё делалось профессионально. Поэтому, работая в школе, она оставила сцену. «Всё должно быть профессионально, Саша!» – так она отвечала на мои уговоры выйти и спеть со сцены. Вот такой она и осталась в памяти знавших ее людей. До болезни.
В последний путь ее пришли проводить, несмотря на мороз, множество народа. Знакомые. Коллеги. Ученики. Соседи. И это было знаком уважения к памяти замечательного человека. А у меня сегодня Ирина стоит перед глазами. С пышнейшей шевелюрой. В балахоне с крыльями-рукавами. «Вы в восьмом ряду, в восьмом ряду. Меня узнайте, мой маэстро». Или в образе проходящего по нашей кухне Адриано Челентано своей неповторимой походкой из фильма «Блеф». А также стоит в моих ушах ее заливистый и завораживающий смех, который я слышал со сцены на своем сольном концерте, где-то там в зале, за фонарями и софитами, среди семисот смеющихся голосов и перекрывающий их своей заразительностью. Смех до всхлипа. До плача. Навзрыд. А в спальне моей до сих пор висит ковер. Старенький такой. С ободранной бахромой. И бахрому эту когда-то, целую жизнь тому назад, своей маленькой талантливой ручонкой обрывала вечерами перед сном моя пятилетняя будущая жена. Моя Ирина. Ирочка.
Послесловие
А в самом начале двадцать первого века случилось то, о чем я даже боялся мечтать. Я вышел на одну сцену с моей дочерью. И стоя в кулисах, я, зачарованно и совершенно обалдевши, слушал песни, написанные моей дочерью. С ее текстами. С ее музыкой. С ее аранжировками. Исполняемые ею же. Про Ваенгу тогда еще никто и не слышал. А дочь уже пела свои неповторимые авторские песни. Пела дочь, но звучал в моих ушах неповторимый голос ее мамы. И никак я не мог избавиться от этого наваждения. Не мог. Да и не хотел. И этот голос до сих пор звучит в моей душе. «Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной». А время идет своим чередом. Уже внучка моя пытается собрать какой-то ансамбль из подружек во дворе. И внук уже заказал мне к будущему лету привезти ему в подарок гитару. И… «Дай бог им лучше нашего сыграть!»
Вот, Ира, я и рассказал всем о тебе. Первый раз за все эти двадцать лет, что тебя нет рядом. Я знаю, что тебе это не понравится, но… Прости меня. Я так решил. Не сердись, Ир. Ладно?
И вновь продолжается бой!
Кто бы что ни говорил сегодня про советскую власть, надо признать: праздники наше руководство тогда умело отмечать с размахом. Начиная от первых парадов тачанок на Красной площади и заканчивая митингами у сельсовета заброшенного сибирского села, где лично я сообщение ТАСС про выход в открытый космос Алексея Леонова прочитал при керосиновой лампе. Праздники обставлялись с такой помпой, что казалось именно Первое мая и есть тот самый последний день Помпеи. По главной площади каждого населенного пункта страны проходили в торжественном марше школьники, наряженные велосипедистами, футболистами или былинными богатырями. С неба белоснежными гроздьями падали парашютисты. Ну а вечером – праздничный салют во всех городах-героях. Всё это делалось для того, чтобы каждый советский человек ощущал на себе заботу КПСС и запомнил эту заботу навсегда. Чтобы сохранилась эта забота не только в памяти, но и в голове, печенках и селезенках. И плевать, что на демонстрацию этого человека гнали под страхом лишения премии или очереди на квартиру. Главное – чтобы был праздник! И никаких гвоздей!..
Вот таким гвоздем в моей памяти и в моих печенках осталось празднование 70 лет Великого Октября у нас на КАТЭКе. 70 лет! Событие было вселенского масштаба. За неделю до этого события из горкома по пять раз на дню прибегали секретари-инструкторы справиться, как проходят репетиции предстоящего концерта. Не криво ли висят шторы. Заменили или нет цветы в горшках на подоконниках. Не мало ли посыпали песочку в деревянном сортире во дворе Дома культуры? Не дай бог, кто-нибудь поскользнется в туалете в такой праздничный момент. Ноябрь все-таки. Короче, забот у них было полно. От них еще требовалось, чтобы мы, работники Дома культуры, так сказать прониклись. Чтобы почувствовали ту ответственность момента, который подобает великому событию. И не приведи господь, если от нас будет исходить запах даже недельной давности перегара.
В общем, шестого ноября в 19.00 всё было готово. Полный зал народа, попавшего в зал исключительно по пригласительным билетам. На сцене длиннющий стол для президиума. Скатерть. Графин. Сзади сверкает блестками из бронзы великий вождь с протянутой рукой. Ленты. Цветы. И висит на заднике огромнейший транспарант: «И вновь продолжается бой!» Сейчас будет доклад. Потом награждение. Вон уже и почетные грамоты лежат на уголке стола волнительной стопкой. А за сценой… В одной кулисе толпится хор ветеранов, человек шестьдесят. Уже накрашенный, напомаженный и снявший бигуди. В другой тоже хор, но уже воспитанников школы искусств. Этот хор тоже накрашенный, но без бигудей пока, слава богу. В третьей кулисе сверкают коленками молодые танцовщицы. Девушки хихикают что-то свое, поглядывая в соседнюю кулису. А в соседней кулисе над чем-то ржут волосатые балбесы-эстрадники. Они до сих пор не верят, что им разрешили спеть на таком высоком собрании шлягер «Не сыпь мне соль на рану». Перестройка все-таки сказывается. Сосредоточенно парами и поодиночке степенно ходят солисты, поглядывая в бумажки и повторяя текст. И среди всего этого великолепия ходит ваш покорный слуга. Художественный руководитель всего этого безумия. И царь. И бог. И козел отпущения. Я в ответе за всё!
И вот в зале гаснет свет. На сцену поднимается почетный президиум во главе с первым секретарем горкома КПСС. Рядом с ним лавирует представитель крайкома. Да-да! У нас всё, как у больших! Семьдесят лет (семьдесят!) советской власти – это вам не конь начхал. Аплодисменты. На трибуне докладчик. Всё! Понеслась, родная. «Гхе-гхе. Дорогие товарищи! Семимильными шагами идет по стране перестройка. Благодаря Центральному комитету…» И вдруг ко мне подходит директор нашего ДК, красавица наша Инна Вадимовна. «Какая она все-таки красивая», – успеваю подумать я, и… И говорит она мне такое, от чего у меня озноб даже сейчас, когда я это пишу. «Саша! Ты только не волнуйся и не кричи». Я замер. «Перед хором в самом начале выступит детский вокально-инструментальный ансамбль». Я думал, что я ослышался. Чего-чего? «Саша, перед хором споют дети». У меня столбняк. «Ты только не ори. Я понимаю, что так не делается, что так нельзя. Но есть мнение…» И она ткнула своим красивым пальчиком в сторону бюста Ленина. «Они проездом. Им некогда. Они должны срочно ехать дальше. Они дипломанты детского конкурса!» И тут я начинаю понимать, что от меня хочет мое начальство. «Инна, – кричу я, – ты же понимаешь, что раньше хора нельзя выпускать ВИА, хоть и детский! У тебя же институт культуры! Это же против всех законов искусства! Это же как должностное преступление! Это же диверсия, Инночка! Хоть стреляй, хоть вешай меня, не пущу их на сцену раньше хора». Она что-то мямлит. «Нет, я сказал!» Она уходит. Меня трясет от возмущения, но я знаю, что я прав.
А на сцене всё идет своим чередом. Докладчик. Дескать, перестройка. Дескать, гласность. Дескать, плюрализм. Кто-то меня по плечу – хлоп. Заведующая отделом культуры. «В чем дело?.. Почему вы отказываетесь выполнять указания горкома?» «Да вы поймите», – уже более спокойно пытаюсь убедить я. Понимаете, мол. Законы жанра. Режиссура массовых мероприятий. Нас учили в институте. Станиславский. Мейерхольд. Кацман. Хор всегда во всем мире, мол, открывает любой концерт. А если бы в Кремле… «Первыми будут петь дети». И тон у нее такой приказной, что я завелся. Как говорится, закусил удила. Нет! Сам поразился своей смелости. Пока я тут главный. Она обалдела от моей наглости и ушла.
Я успокоился немного. На сцене уже выступает представитель крайкома. Дескать, перестройка. Дескать, гласность. Дескать, плюрализм. Заслушаешься! «Кто тут самый главный?» Оборачиваюсь – третий секретарь горкома партии. Третий. Второй после бога, как принято говорить. И сразу мне в лоб: «Вам что, квартира не нужна? Вы, по-моему, второй или третий на очереди?» Против этого лома у меня приема не нашлось. Перед глазами проплыли тесть с тещей. Подъем в шесть утра. Куры. Гуси. Коровы. Быки. Пчелы. Стайки. Огород. Покос. Вспомнилась фраза из фильма «Тени исчезают в полдень»: «Никуды ты, милок, не денисси».
Ну че. Обьявили технический перерыв. Стали таскать на сцену аппаратуру. Потом минут двадцать настраивали инструменты. Дергали за струны. Бим-бим. Бям-бям. В зале народ дисциплинированно ждал начала концерта. Я стою в сторонке. Мне стыдно. Я пошел на преступление против искусства. Я нарушил все законы всех правил. Для меня, молодого идиота, казалось, что мое преступление – это как… Это как… Это как бы яблоко у Ньютона падало бы вверх. Это как бы у Менделеева в его таблице водород был бы записан как металл. Против всех законов физики я выступал. Как еретик. И так мне было стыдно. Но что поделаешь? Аргумент с квартирой был убойный. Теща. Куры. Пчелы. А я думал, что это Троцкий был последним представителем первой древнейшей профессии.
Взял себя в руки. Успокоил себя, мол, ради семьи иду на такие жертвы. Подошел к руководителю этой ребятни. Как вас объявить? Он глянул на меня, как на пустое место. Никак. Они сами все знают. Дипломант, не хухры-мухры! Кто я для него? Он там где-то сам себя видит на уровне Пола Маккартни, а я тут… Наконец разобрались. Утих зал. Утих недовольный народ за кулисами. Девочка лет десяти вышла к микрофону. Обьявляет. Выступает. Дипломант. Песня «Я у бабушки живу». Ушла. Выскочили ребятишки, ее ровесники. Дети на сцене – это всегда мило. Запели они, заиграли. Руководитель из-за кулис показал им ободряюще большой палец и исчез. Они поют. Хорошо или плохо поют, это уже другой вопрос. Дети не виноваты, что мы, взрослые, ради своих больных амбиций…
Вдруг! На словах «шоколадок полный дом» застряла у синтезатора клавиша. Не выключается. Запала. Такое бывает, но… Это же дети. Их учили быть на сцене невозмутимыми, что бы ни стряслось. Бз-з-з-з-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з. Клавиша режет по ушам, как бензопила. Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з. «Папа с мамой ходят в гости к нам». Бз-з-з-з-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з-з. «У меня сестренки нет». Бз-з-з-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з-з. «У меня братишки нет». Бз-з-з-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-зз-з-з. Я кинулся к руководителю. А его нету. Нигде! А на сцене бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з. Песня кончилась! Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з. Я думал, всё на этом и закончится, ан нет. Выходит девочка и обьявляет сквозь бз-з-з-з-з-з-з-з-бз-з-з-з-з-з: «Песня первоклассника»! Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з. Дети есть дети. Они не растерялись. «Нагружать всё больше нас». Бз-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з. Я побежал искать руководителя. По всем подсобкам и сортирам. Нету! Как сквозь землю! Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з. Они поют сквозь это бз-з-з-з-з-бз-з-з-з-з. Со стороны это выглядело, как пение под аккомпанимент «болгарки» или «циркулярки». Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з. Спели они вторую песню. Девочка обьявляет: «Песенка крокодила Гены». Бз-з-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з-з.
Прилетает бешеная Инна-директор. Саша, убери их! Умоляю! А этот наглец Саша вежливо так отвечает: «А это не я их туда выпускал». И этот тварина, иначе не скажешь, Саша, то бишь я, вкрадчиво так спрашивает у девочки-ведущей: «А сколько всего у вас песен на бумажке написано?» И девочка выдает как последний гвоздь в последнюю крышку гроба: «Двенадцать». Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з. Чтобы тут же не упасть в обморок, Инна-директор убегает. Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з. А клавиша пищит, не умолкая. Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з. «Облака – белогривые лошадки», – кричит девочка в одуревший от этого звука зал. Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з.
Что творится за кулисами – это невозможно описать ни-ка-ки-ми сло-ва-ми. Ветераны хватаются за голову. Эстрадники ржут самым вызывающим образом. Танцоры подпрыгивают то ли от радости, то ли от нетерпения. Я тупо сижу в углу. Жду я. И я знаю чего, вернее кого, я жду. Подлетает вся в мыле завотделом культуры. Это что такое?! Бз-з-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з-з. Сделайте хоть что-нибудь. Бз-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з. Я, нахал, развожу руками. Бз-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з. Вы же специалист! Бз-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з. «Не я их руководитель», – кричу ей сквозь бз-з-з-з-з-з-бз-з-з-з-з-з. «А он где?» – орет она мне в ухо. Бз-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з. Понятия не имею. Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з. Она что-то еще кричит. Я показываю жестом, мол, не слышу. Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з-з-з. А ребятишки поют: «Уголок Росси-и-и-и отчий до-о-о-ом». Бз-з-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з-з. Она еще что-то пытается кричать. Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з. Потом машет куда-то рукой и убегает. А я сижу. Жду третьего пришествия. Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з. «Взвейтесь кострами», – опять кричит сквозь бз-з-з-з-бз-з-з-з-з девочка. Руководителя этого гвоздя программы ВИА уже никто и не ищет. Все обреченно ждут финальной двенадцатой песни. Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з. И тут появляется по мою душу третий секретарь горкома. Идет ко мне такой походкой, что в ушах у меня непроизвольно звучит «Сцена нашествия» из бессмертной Ленинградской симфонии Шостаковича. Па-а-па-а-па-а-па-па. И только он открыл рот, как девочка крикнула сквозь бз-з-з-з-з-бз-з-з-з-з: «На этом наш концерт окончен! Спасибо за внимание!» Бз-з-з-з-з. Бз-з-з-з-з.