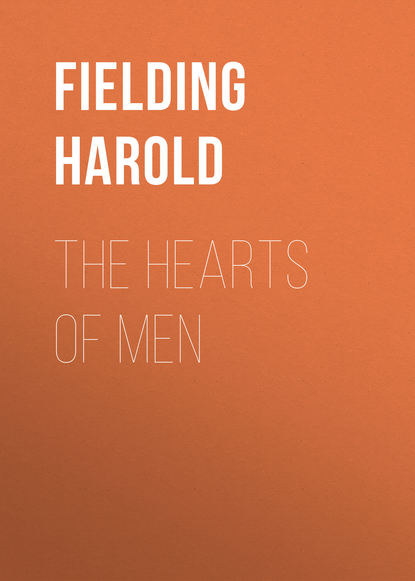Рай за обочиной (Диссоциация)

- -
- 100%
- +
Кер со своей компанией (группой) стоял в дверях. Элль выловила взглядом его тонкое безучастное, как Луна, лицо. Ей показалось, до того они на мгновение пересеклись взглядами. Затем неуверенными руками она сняла очки, положила их на столик у себя за спиной, к которому, по своему обыкновению, затем прижалась поясницей. Она всегда снимала очки, когда читала, потому что в одном из тех многочисленных чатов, в которых проходила её жизнь, кто-то сказал, что без очков она выглядит красивее. Ещё Элль нужно было это мгновение, чтобы опереться на стол и осмотреть публику. На столик перед чтениями всегда ставили стакан с водой, из которого за весь вечер отпивал один лишь только Кер. Элль предпочитала выходить со своей кружкой: ставила её на столик, а рядом складывала очки.
Расфокусированным взглядом она выбирала, кому на этот раз будет читать свои стихи. Это помогало ей собраться.
– Привет всем. Я называюсь Элль, – говорила она, из груди напрягая голос, и с каждым словом её речь звучала увереннее, а близорукий взгляд всё шарил по публике в поиске лица, на котором можно было бы остановиться. – Элль – от моего имени, Эллина. И я не поэтесса, скорее – так, поэтка. К своим стихам я не отношусь всерьёз и вам не советую…
Во втором ряду, даже без очков, Элль узнала лицо Славика – приземистого пухлого актёра из любительского театра. Она никогда не общалась со Славиком особенно близко, но знала его как добродушного и дружелюбного парня, который превосходно умел притягивать к себе людей и его никогда нельзя было видеть одного. И в этот раз со Славиком, завсегдатаем «Локуса», кто-то был. Элль не могла разглядеть, кто это, но почему-то определила, что спутник Славика здесь впервые: что-то в том, как он держался, выдавало в нём новичка.
«Локус», являвшийся по факту барахолкой, представлял из себя, на самом деле, уникальное явление. Холл и три зала в полуподвале гостиницы «Берлин», заваленные всякой всячиной, от ношенной одежды и читанных книг до настольных игр и рукодельных безделушек, на самом деле был пространством, притягивающим сказочных, как называла их Элль, людей. Неизвестные поэты, музыканты, художники, толкиенисты, хиппи, панки – совершенно разношёрстная и пёстрая публика, объединённая общим духом «Локуса». Элль могла поклясться, что мимоходом взглянув на кого-то на улице, безошибочно определила бы завсегдатая «Локуса» – и отнюдь не по значку на портфеле или куртке, а по другим особенным внешним деталям и, может быть, по лёгкому аромату старых книг и чая.
Теперь, выхватив это нечёткое, как мутное пятно Луны, незнакомое лицо в импровизированном зрительном зале, Элль невольно задалась вопросом: примет ли «Локус» новичка? – и, задержав на нём свой близорукий взгляд, она вдохнула полной грудью пыльно-книжный запах и начала читать:
Луна взошла в перигей заговаривать океаны,Заглушать голоса морей – бледнолика и взгляд туманный.Магнетизм, колдует прилив, сквозь пространство морей воды манит,Призывает идти вслед за ней, в костно-белом погрязнуть тумане.Шепчет морю: "Иди за мной, моя почва суха, здесь тебя не хватает,Мои сонные кратеры солью омой, пусть прибой мою кожу ласкает".Волны моря бушуют и бьют, и вскипают в порыве взлететь,Но их тянет на дно, не даёт им взлететь эта бренная клеть, эта бренная клеть -Это кожа Земли – камениста, шершава, песчанна;И беснуется море, и претит ему земляная скалистая ваннаСтихи свои Элль слагала для того, чтобы читать их вслух, а читать их так, как она, не мог больше никто. Читала она – как будто пела. Певучий, вязкий ямб происходил из-за самой её грудины, из каждого резонатора, и Элль, казалось, сама терялась в нём. Растворялась. Она сама превращалась в перформанс, брызжа энергией, и больше никого и ничего вокруг, как будто, не существовало. Разметались рифмы-крылья, оперённые прожитым… Элль уже закрыла глаза и не смотрела ни на знакомую публику, ни на новичка, а обратила взор внутрь себя.
Вот – она закончила. В короткую передышку перед следующим стихотворением она скользнула краем глаза по группе, теснившейся у дверей. Ей почему-то вспомнилось, как в вузе, в перерыве между парами, когда они вышли покурить, Кер, голубоглазый, с полуприкрытыми бледными веками, назвал её братаном. Она принесла забытый им в аудитории зелёный вязаный шарф, похожий, скорее, на уютный мягкий плед. Кер смял его тонкими пальцами и сказал:
– Спасибо, братан.
Элль тогда молча улыбнулась и достала пачку «Мальборо-ред», с тёмной плашки у которой смотрел стянутый катарактой глаз.
«Сейчас он услышит», – не без стыда подумала Элль и вновь обратила взгляд на размытое лицо незнакомца. Собравшись с духом, она выпалила первое слово:
– Вы, – и за ним напевно и очарованно полилось стихотворное признание, написанное тогда ею на лекции, когда запах табака на пальцах замаскировал запах уютного зелёного шарфа:
Вы меланхолически-красивы и изящны.Вы вписываетесь в декорации монотонных нагроможденийИ прямых линий.Любой бы счел за счастьеИметь такого прекрасного друга, как из сновидений,Как Дориан Грей.А этот ваш город ночью всё равно – синий.Вам не станет веселей,Как на скамейке в парке, так и за городом на лужайке,Но вы красивее именно в парке -Просто потому, что чем ближе к градирням,Тем вы красивее.Чем вы ближе к промзонам -Тем вы красивее.Светлый лик – незнакомым(Незаконно насилие).Незаконно – насилие.У вас руки красивые -Изо мрамора высечены.Словно статуя в парке – вы величественны.Вы капризно молчите и жмёте губы,А позади вас – красно-белые трубыНакачивают небо смогом.Кто смог быПройти – и не бросить восхищенный взгляд,Не обернуться назад -Пройти мимо вас?!Вы собираете на затылке густые пепельные волосы.Длинными пальцами стряхиваете пепел.Если говорите – томно, в полголоса.Выпуская в небо дым, бросаете взгляды-плети.Ваши взгляды – петли,Нет ли?Однако, если вас и любить – то только на расстоянии,Что всем остальным стоит понять заранее.И знаете ли вы ответ:Что останется от вас через столько лет,Сколько вы уже прожили -То есть, через ещё одну жизнь?Молитесь, что ничего, кроме пыли,И несколько десятков (если не сотен) картин.Метафизическая последняя точка – следует молчание. Элль замерла, с близорукой растерянностью глядя в зал и глупенько улыбаясь. Из-за стойки с кассой выступила Мята и помахала руками, напоминая слушателям:
– Обратная связь!
Элль нашарила на столе у себя за спиной очки, надела – и мир стал привычно резким. Тут же очертилось лицо Славикова спутника, и Элль стало дико неловко, оттого что их взгляды пересеклись. Она стала смотреть в освещённый угол, где за занавеской скрывалась дверь в туалет. Она услышала голос Славика:
– Молодец! – и аплодисменты.
– Сильно! – похвалила кудрявая девушка в жёлтых очках, сидевшая в третьем ряду.
Элль послала ей воздушный поцелуй.
– Спасибо, Совушка!
Её голос сделался привычно неуверенным и тихим, словно бы вся энергия была брошена в перформанс. Она как-то неловко повернулась спиной к публике, взяла со стола чашку, глотнула остывший чай из пакетика. Светильник в жёлтом абажуре освещал стакан воды, яснее очерчивая прямые стеклянные стенки.
Элль мешкала у стола, стоя к ребятам спиной. Ей не давало покоя, что тот, для кого уже негласно наливают воду в этот стакан, слышал её робкое изящное признание. Вдруг – он смотрит на неё, всё так же стоя у дверей, и всё понимает?..
Мята мягко коснулась маленькой рукой пышного рукава её платья. Элль взглянула на неё и кивнула, сдвинулась с места. Проходя к своему одинокому стулу, Эльь заметила, что среди людей, стоявших у входа в зал, Кера не было. Ей стало одновременно и горько, и легко.
Маленькая Мята невнятно объявила следующего чтеца. От места возле Славика отделилась тень, и на освещённый островок к столику вышел тот самый запримеченный Элль новичок.
Выглядел он как-то совсем непритязательно: не особо высокий, угловатый и с непропорциональным лицом, длинными руками вдоль широкого, почти квадратного туловища. Со стороны он выглядел нахальным, любящим внимание, и по его лицу скользила ядовитенькая ухмылочка, когда он представлялся и что-то говорил – Элль не слушала, она пыталась вспомнить, где бы могла видеть его. Она даже спросила шёпотом у сидевшей перед ней Совушки, закутавшейся в шаль с пёстрым орнаментом-опереньем:
– Это кто?..
– Не знаю, – пожала та плечами. – Но он мне не нравится…
Элль поджала губы и обратила взгляд на импровизированную сцену.
А новичок сделал то, что потрясло «Локус». Этот акт истинного нахальства после никто никогда не обсуждал, но каждый завсегдатай «Локуса» остался глубоко потрясён. Новичок встал вполоборота, вытянул тонкокостную руку и взял со стола стакан. В этот момент все, находившиеся в зале затихли, а само пространство, похоже, наэлектризовалось, как воздух вокруг ЛЭП, от осуждающих взглядов. Если бы кто-нибудь в этот момент принёс откуда-нибудь люминесцентную лампу, в её белой трубке без подключения к контактам сам по себе зародился свет.
Новичок, как будто насмехаясь надо всеми, невозмутимо промочил горло из стакана Кера, затем так же невозмутимо поставил стакан на место (в нём брезгливо плеснулась вода) и развернулся к залу…
Тут грянул громовой раскат – нет, пророкотал голос:
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Все замерли.
Этот парень читал только Маяковского – своим зычным голосом, от которого, казалось, дрожали стены. Совушка застыла, словно околдованная этим голосом, а Элль сидела на своём стульчике, скрестив и поджав ноги, держала пустую кружку с биркой чайного пакетика и щурилась, всматриваясь в фигуру чтеца у журнального стола. Где бы она могла его видеть? Где слышала этот раскатистый баритон?
Конечно, он напрягал голос, потому что когда представлялся, говорил по-другому, но наверное, именно так сам Маяковский и читал свои стихи с помоста.
За выпущенным последним словом повисла тишина. Впечатлённая публика осталась в замешательстве. Чтобы разрядить обстановку, Мята осторожно выступила из-за стойки и напомнила своим детским голоском об обратной связи. На фоне миниатюрной Мяты чтец, сам по себе и не особо-то высокий, выглядел очень даже внушительно. Он стоял, самодовольно ухмыляясь, пока из зала летели похвалы, и казалось, «Локус» простил наглецу стакан Кера…
– Вы прямо как настоящий Маяковский! – крикнула с места восхищённая Совушка.
– Спасибо! – отозвался своим деланным зычным баритоном парень.
Элль думала спросить, где могла его видеть, но тут Мята объявила:
– А сейчас – перекур! Пятнадцать минут. Если вы не успели, то сейчас можете записаться на свободный микрофон, – и указала маленькой ручкой в сторону стенда с примагниченным листком для записи.
В перерыве Элль решила обойти «Локус». В одном зале, куда она заглянула, какая-то девушка примеряла плащ с заедающей молнией. В холле, на столе с чаем и чашками, горел красный глазок кипятящегося бойлера. По всему «Локусу» были развешаны записки для посетителей, написанные от руки разноцветными фломастерами. Например, на большой коробке с чаем, возле которой Элль оставила салатовую чашку, была записка:
ЧАЙ, САХАР, ПЕЧЕНЬКИ И ПЛЮШКИ
УГОЩАЙСЯ!
Не забудь потом помыть за собой чашку
Элль ополоснула свою чашку тут же в раковине и поставила сушиться к другим.
В тесном гардеробе, как оберег от карманников, висела записка:
ЖУЛИК, НЕ ВОРУЙ!
В завале зимних курток Элль отыскала свою и вышла покурить.
Холодная осенняя синь на улице, а по ней разбросаны жёлтые окна бизнес-центр «Берлин». Во дворе алеют бусины тлеющих сигарет, нанизанных на нити дыма. Элль остановилась и огляделась.
– Элль! – окликнула её подперевшая плечом стенку Мята. – Офигенные колготки!
– Спасибо, – отозвалась Элль, зябко переминаясь тонкими ногами, расчерченными поперечными чёрно-белыми полосами.
Рядом с Мятой столпились другие ребята. Элль застенчиво подтянулась поближе к ним, но остановилась поодаль, закурила свой «Мальборо-ред» и обратилась к Мяте:
– Где Кер?
– Ушёл.
– Ясно, – вздохнула Элль, опуская лицо и задумчиво вскидывая брови.
– Он ушёл перед тем, как ты второй стих начала читать, – подал голос стоявший тут же Славик.
– Я поняла.
Элль посмотрела на него, выглядевшего ещё более пухлым в серой куртке, чуть переместила взгляд и увидела рядом того парня, которого окрестила про себя Маяковским. Тот курил, кажется, небольшую сигару, запах табака от которой был более густой и сладкий, нежели от сигарет. Можно было заметить при этом, что Маяковский курит не взатяг, и причмокивая, пускает колечки дыма.
Элль подумала про Кера, который бывало, выходя на перекуры в этот двор, набивал и закуривал маленькую чёрную трубочку. Его табак тоже пах более насыщенно, нежели сигаретный.
– Кстати, Эля! – окликнул её Славик и при этом, показалось, подпрыгнул, как мягкий резиновый мячик. – Тебе ещё не представил: это мой товарищ – Стар.
– Очень приятно, – мягко улыбнулась Элль его спутнику.
– Взаимно, – отозвался Стар. – А у вас очень годные стихи.
– Спасибо… – едва слышно проговорила Элль и хотела сказать «у вас тоже», но тут же одёрнула себя, а Стар тем временем продолжил:
– И читаете неплохо.
Тут Элль сказала:
– И вы тоже.
– Наверное.
– Мне тоже нравится Маяковский, – произнесла Элль, внутренне коря себя за многословность. – Мне нравятся стихи, написанные для того, чтобы их читали вслух.
– Не слушай её, – перекатился хохотком Славик, обращаясь к Стару. – Ей не нравится Маяковский, ей нравится Пастернак. Если не своё – так всё время читает «Марбург» или «Заместительницу».
Элль деланно насупилась
– Между прочим, Пастернак – тоже футурист! Они с Маяковским вместе «тусили». Есть фотография кружка кубофутуристов, где они в одном кадре.
– А потом твой Пастернак написал «Доктора Живаго», – невозмутимо заметил Славик.
Элль парировала:
– Ну, Маяковский-то ещё до того застрелился, так что-о…
Славик прицокнул и ехидненько обратился к Стару, кивая на неё:
– Любит всяких диссидентов, вишь!
– Нет, ну, Пастернак объективно хорош, – передёрнул тот плечами и затянулся долгой сигариллой, которая, как казалось, никогда не докурится.
Найдя поддержку, Элль многозначительно посмотрела на Славика и поджала пухлые губы. В темноте, накрашенные очень тёмной помадой, на её выбеленном лице они контрастно выделялись.
Пауза.
Ребята, чтецы и слушатели, потихоньку докуривали и возвращались в светлое и уютное чрево «Локуса» занимать места перед вторым актом. Ушла Мята, ушла Совушка. Они остались втроём: Славик с вейпом в вязаном мешочке, Старый и Элль, на автомате достающая уже третью сигарету.
– Паровозик чух-чух-чух, – усмехнулся Славик, глядя на неё.
Элль закатила глаза.
– Ой, кто б говорил, а!
В темноте послышался смех Старого. Только что слышавшая его зычный голос, когда он читал стихи, Элль не поверила бы, что эти звуки может издавать один и тот же человек. Смех у Старого был контрастно визгливый, гиений, неприятный. Да и весь он был – неприятный.
А он – пошутил:
– Если тебя сейчас гильотинировать – ну, вдруг, случайно – то ещё полчаса можно будет наблюдать, как ты выпускаешь пар. Ещё и – двойное яблочко!
Элль почему-то прыснула, хоть и не поняла.
Славик тоже засмеялся своим булькающим смехом.
– А если тебя иголкой уколоть – из тебя тоже пар выйдет и ты сдуешься? – подхватила Элль шутку, на что Славик, с присущей ему невозмутимостью, сказал:
– А ты попробуй!
– Я попробую, – вступил Старый. – Вот будешь в следующий раз забивочку делать – я-то у тебя иголочку возьму…
Элль замолчала и наблюдала за ними, а перед её глазами светился мокрый асфальт, к которому прилипли плоские листья. Силуэты Славика и Стара расплылись в вечере, её внимание переключилось на ржавые отпечатки листьев на земле. Как в трансе, её губы зашептали, с каждым разом всё громче и увереннее:
…Ещё пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте…*
Она читала – и как будто сама превращалась в игольчатый дождь, рассыпаясь на лёгкие блёстки. И читала она сама себе или колючему вечеру, но из-за сине-дымной поволоки к ней был прикован взгляд пары синих глаз…
– Красиво, – сказал Стар, когда она закончила.
– Ой, – растерялась Элль. – Вы слышали?..
Ещё больше её застало врасплох то, что она обнаружила: во внутреннем дворе гостиницы «Берлин» они остались вдвоём. Элль поискала взглядом Славика, а потом внезапно севшим голосом спросила:
– Где он?
– Ушёл внутрь, – отозвался Стар таким колким тоном, словно из всех возможных глупых вопросов отвечал на глупейший.
– Ушёл, – повторила Элль, судорожно затягиваясь. Её замёрзшие руки уже не могли держать сигарету, а колени тряслись и ныли от холода. – Все ушли!
Тон у неё стал какой-то жалобный, обиженный.
А Старый окинул её взглядом и неожиданно мягко, сочувственно спросил:
– Озябли?
– Нет, – соврала Элль.
– А чего тогда дрожите?
– Разве? Вам кажется.
– Ну, как знаете…
Элль затушила сигарету и направилась ко входу в «Локус». В предбаннике она обнаружила, что её нагнал Старый – обернулась и увидела его лицо. Вблизи, при электрическом свете она увидела, какой он красный с мороза, вплоть до кончиков ушей, и отталкивающий. А он опасно глядел на неё из-под тяжёлых, нависающих складок век синими глазами – синими, как оставшийся за дверью холодный сентябрьский вечер – и нахально улыбался потрескавшимися губами.
Форма и черты его лица чем-то подсказали Элль, что перед нею не москвич – те, как правило, обычно более пропорциональны и веки у них как будто меньше нависают…
Она отвернулась, пытаясь не обращать внимание на Стара. Ей хотелось поскорее сбросить тяжёлое от пропитавшей его влаги пальто и пройти налить тёплого чая.
Стягивая с плеча рукав, Элль почувствовала, что её пальто держат… Она нахмурилась, обернулась – и обожглась колючим взглядом синих глаз.
– Позвольте за вами поухаживать, – промурлыкал у неё над ухом Старый, дыша мягким табачным запахом.
Кроме табака, от него пахло горьким одеколоном – так сильно, что при каждом его движении только сильнее щипало в носу.
Элль отвернулась, поджала губы, разрешила:
– Ну, попробуйте, – и игриво передёрнула плечами.
Старый помог ей снять пальто, повесить на плечики, затем принялся раздеваться сам. Элль прошла в холл, подальше от горьких запахов, обострившихся, когда Стар разматывал шарф на шее.
ЧАЙ, САХАР, ПЕЧЕНЬКИ И ПЛЮШКИ
УГОЩАЙСЯ!
Не забудь потом помыть за собой чашку
Элль шарила по столу взглядом. Чашек на нём стояло чуть больше, нежели в начале перерыва, и все – разномастные. Были большие, просто монументальные кружки, были небольшие изящные чашечки, были старые, были новые, были со сколами, были гладкие, были в горошек, были в цветочек, были с надписями, а салатовой с большой круглой ручкой – не было.
– Кто-то взял! – взвилась Элль. – Руки оторву, сволочи…
Над нею возник Стар в душном табачно-одеколонном ореоле.
– Чашечку потеряли?
– Её кто-то взял. Но она и не моя, так-то. Просто – цвет нравится. Всегда её беру.
– А какого она цвета?
Старый неумолимо нависал над ней, глядя большими, всепоглощающими синими глазами. У него шерстяной пиджак был под цвет глаз, только на лацкане краснел значок с профилем Ленина. ВЛКСМ – Элль обратила внимание. Почему-то это её немного воодушевило. Небольшая деталька – тут же сделала Старого в её глазах не настолько отталкивающим…
Элль посмотрела зелёными глазами из-за очков.
– Салатовая.
Старый окинул стол внимательным взглядом и хмыкнул:
– И правда ж – кто-то взял.
Элль раздосадовано покачала головой.
Из зала доносился чей-то голос, читающий стихи.
Стар достал из-за пазухи плоскую фляжку, открутил пробку – и тут же пахнуло травами. У него были угловатые гибкие пальцы с толстой кожей на сгибах.
– Будете? – спросил он, предлагая Элль фляжку, заманчиво пахшую пьяными травами. – Всё-таки, согреться надо – на холоде сколько простояли.
– Спасибо, пожалуй, откажусь.
Взяв первую попавшуюся чашку, Элль ополоснула её, бросила внутрь пакетик ягодного чая и залила кипятком из бойлера.
– А я – не откажусь, – сказал Стар и запрокинул фляжку.
В кипятке у Элль медленно расплывалось тёмно-лиловое облако, как будто в воду обмакнули кисть с краской.
– Что у вас за чай? – поинтересовался Стар.
– Ягодный, – отозвалась Элль. – Вон там можно взять.
– Мм, пахнет приятно. Вкусный?
– Для чая из пакетика – вполне сносно, – кивнула Элль. – Обычно такой в буфете на учёбе беру.
– Вот как. Учитесь, значит? На кого?
– На биохимика. А вы?
Стар улыбнулася мягкими красными губами.
– Физтех.
– О-о, – протянула Элль, медленно качая головой.
Всё это время она не сводила глаз с рубинового значка ВЛКСМ на лацкане Старого, как будто Ильич на знамени мог внезапно ожить и пошевелиться, а она боялась это пропустить.
– Вы – коммунист? – наконец спросила она.
– Марксист.
– А впрочем, не удивительно: вы пришли сюда, со Славиком, – рассудила она, отпивая чай, а пар осел конденсатом на стёклах её очков. Она отставила чашку и сняла их, чтобы протереть подолом изумрудно-зелёной юбки. – Многие, кто здесь бывают – леваки, а со Славиком-то – уж и подавно…
– Я не «левак», – возразил Старый.
Элль закатила глаза.
– Ох, ну а кто тогда?
– Секретарь комсомольской ячейки.
– Ле-вак, – заключила Элль.
– Нет.
Старый смерил её взглядом.
– Пойдёмте. Там – читают, – сказала Элль, взмахнув в сторону прохода, в котором слышались отголоски стихов.
– Я не хочу, – мотнул головой Старый. – Мне вполне хватило первого акта. Вряд ли теперь можно будет услышать что-то стоящее, кроме унылых графоманов. А вот вас бы – я ещё раз послушал.
– Ну, как знаете. Я уже отчитала свою программу и теперь хотела бы послушать других. Уверена, там ещё выйдут талантливые поэты.
Старый покосился на неё из-под густых растрёпанных бровей, таких же пепельных, как его голова. В выражении его глаз было что-то щенячье.
– Значит – пойдёте?
Элль замешкалась. Она и сама устала за первую часть. Она достаточно хорошо знала местную публику и знала, что настоящих поэтов среди них – от силы, один процент. Все остальные, как выразился Старый – унылые графоманы.
– А вы можете предложить хорошую альтернативу?
– Отчего же – не могу? В центре, я знаю, есть один замечательный бар…
*Пастернак Б. Л., «Осень», 1949
Ближайшая ночь
Если бы у Элль спросили, почему она покинула «Локус» с этим малоприятным человеком и поехала в центр, она бы ответила просто: что это – авантюра. Свою жизнь она считала исключительно серой и пресной, и если вдруг спонтанно выдавалась возможность совершить авантюру, она ею тут же пользовалась. Однако она написала своей подруге Ксюше:
19:17
еду в центр
мб до утра
я со Старым
его тут все видели
друг его –
и скинула ссылку на страницу Славика.
И они двое канули в осенний вечер, жёлтый от деревьев и электричества.
В светлом и просторном метро ещё не схлынули толпы, и в тесном вагоне, а затем в течении людского моря на переходах между станциями и выходах, Элль тихо спросила Стара:
– Можно я буду за вас держаться, чтобы не отстать?
Тот кивнул, придерживаясь одной рукой за поручень над головой – с вытертым хромированием, слегка наэлектризованный. Элль нашарила и сжала его грубую горячую руку, под кожей которой прощупывались кости и жёсткие жилы. На самом деле, ощущение того, что её в этой толпе держат за руку, подавляло у Элль приступ агорафобии. Она стояла с отстранённым лицом, сосредоточенно держась за Старого, у которого была цепкая паучья хватка, и смотрела на своё бледное отражение в тёмном стекле.
Объёмные от холодной погоды пассажиры толкались и покачивались вместе с вагоном.
– Вообще, я живу в Щёлково. Это за Мытищами, ну, подальше… А в Мытищах как раз – «Метровагонмаш», – говорила Элль. – Собирают вагоны для метро по всей стране: в любом российском городе, где есть метро, есть мытищинские вагоны. Даже кое-где за границей тоже, например – в Будапеште.
– Интересно. Никогда не задумывался, где делают вагоны для метро, – признался Стар.
Лицо Элль тронула улыбка. Она не была лишена, в известной мере, местечкового патриотизма и любила рассказывать о своём городе, соседних городах, их значимости, например, в промышленности, хотя задней мыслью понимала: что Щёлково, что Мытищи – рядовые подмосковные города. Житель любого такого может рассказать о своей малой родине с такой же важностью.