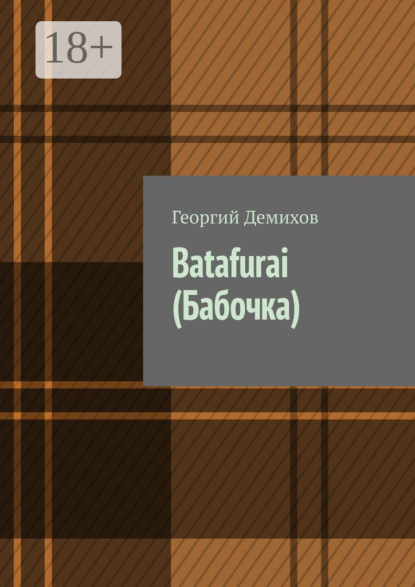Рай за обочиной (Диссоциация)

- -
- 100%
- +
– Теперь знаете, – подмигнула Элль. – Как-то я чуть не связалась с РРП, о-ой… Мы двумя ребятами оттуда вдоль кирпичной стены как раз «Метровагонмаша» в Мытищах от патрульных бегали. Где мои семнадцать лет?..
– Уважаемо, – покачал головой Старый. – Меня, прости господи, тоже как-то к ним занесло. Узнал, что Биец* всё ещё не помылся, и больше на их собраниях не появлялся.
Элль хохотнула.
Председатель «Революционной рабочей партии» имел весьма неопрятный внешний вид и на людях, поговаривали, в любую погоду, появлялся в одном и том же растянутом сером свитере – оттуда-то и пошла эта шуточка среди левых: осведомляться у членов партии, помылся ли их лидер. Казалось, она была уже такой же старой, как и пресловутый вечный свитер…
– Вообще, мы ходили туда с газетками, – сказала Элль. – У людей была очень разная реакция, но мне особенно запомнился один мужик: белобрысый, с вот этой вот чёлочкой… Ну… Он остановился, пролистнул нашу газетку и говорит такой: «Это, конечно, всё хорошо и правильно написано, но на деле будет такая же наёбка, как и у Ленина…»
Из метро они вышли на бульвары, скрылись от дорожной пыли в аллеях. Чёрные деревья тянули свои кривые голые ветки к небу, и сквозь их сплетения просвечивали цветные прожекторы: попытки как-то скрасить стремительно удлиняющиеся ночи.
– Можно, я возьму вас под руку? Я привыкла ходить под руку с… молодыми людьми, – говорила Элль.
– Ну, берите – раз привыкли, – говорил Старый, отставляя локоть.
Элль повисла у него на руке, думая, что определённо делает со своей жизнью что-то не то, но две вещи прощали её: здесь и сейчас ей было хорошо, а потом она никогда в жизни больше не пересечётся со Старым. Несмотря на то, что и в большой Москве все левые активисты знакомы друг с другом через энное количество рукопожатий и зачастую даже пересекаются на разного рода мероприятиях, какова вероятность, что при очередной такой встрече у них обоих вообще будет возможность вспомнить эту прогулку? Разве что Элль тихо похвастается какой-нибудь рядом сидящей товарке, что как-то раз гуляла по бульварам с секретарём комсомольской ячейки Старым, а до того потом дойдёт, что он и спал с той девчонкой, которая подружка какой-то анархистки-не-анархистки – как, бишь, её там?.. Элль-Эллина-Элечка-Элька-Элка-Электричка… Или та анархистка – Элль; а эта тогда – вообще кто такая? Да и что с неё взять – просто нашла тусовку. Пришла в левый движ ноги раздвигать: парней же в движе много. Такие – как надо что-то серьёзное, так сразу след и простынет. Да ещё сдаст, в случае чего, глазом не поведёт. Девки вообще – товарищи ненадёжные…
– Да мы вот тоже ходили как-то с товарищами на завод один, тоже – газеты заводчанам раздавать, – рассказывал Старый, – так у нас одному чуть морду не набили, дурачок ибо. Уже и вахтёр вышел… Нас из-за него чуть всех не повинтили. Вот, мы пришли, кстати, – сказал он, заприметив за деревьями светящуюся фиолетовым вывеску.
Они свернули, перешли дорогу.
– Ой… – осела Элль. – Я забыла паспорт…
– Эх, жаль, – причмокнул Старый, но тут же выставил вперёд ладонь, жестом человека, который может всё решить. – Сейчас всё уладим. А сколько вам лет, кстати?..
– Девятнадцать, – ответила Элль и чуть помолчала. – А вам?
Она почему-то была свято уверена, что спутник старше неё самой на, как минимум, пару лет. Оттого её очень удивило, когда Старый ответил:
– Ну, мне тоже.
Затем на её изумлённых глазах он подошёл к охраннику и объяснил, что так мол и так, милая дама изволила забыть паспорт – но он готов поручиться, что она – совершеннолетняя. Нельзя ли как-нибудь устроить, чтобы его очаровательная спутница смогла пройти с ним? Лысоватый охранник наклонился к Старому и сказал:
– Двести! – и Элль это отчётливо услышала собственными ушами, но Старый переспросил:
– Что? Триста? – полез и отсчитал три коричневых сторублёвых купюры.
Элль растерянно промолчала.
Охранник тоже ничего не сказал, но их пропустил.
В баре играло, кажется, “Anybody seen my baby”. Присаживаясь на диван в дальнем уголке, Старый заметил:
– Здесь обычно ставят очень годную музыку.
Подошла официантка, принесла два крафт-листа с меню. Старый подал один Элль, другой положил перед собой.
– Ну-с, что будете? Я угощаю.
– Не знаю, – растерялась Элль, вперив разбегающийся взгляд в меню.
– Здесь наливают неплохой сидр. Предлагаю с него и начать.
– Давайте, – согласилась Элль. – Любою сидр.
– Два сидра, пожалуйста, – обратился Старый к официантке, ожидавшей неподалёку.
Она оставила одно меню на столе и ушла.
Старый упёрся локтями в стол, сцепил руки в замок и с интересом посмотрел на Элль. В приглушённом свете бара она казалась чужеродным ярким пятном, что кажется, сама понимала, и чего стеснялась. Она сидела, опустив плечи и зажав сложенные лодочкой ладони между коленями (печальный паяц).
– Что-то вы какая-то грустненькая…
– Устала немного, – вздохнула Элль и невпопад вставила: – А ещё у меня шизотипическое расстройство.
– У-у, – пробасил Старый, – понапридумывают себе диагнозов…
В его сторону метнулся суровый взгляд зелёных глаз.
– Ах, если бы я придумала! Могу выписку показать.
Старый воздел руки, как бы сдаваясь:
– Ладно, ладно. Верю, – а потом невесело добавил, как будто для самого себя: – Вокруг меня что-то подозрительно много девушек с какими-то расстройствами…
Элль не расслышала – потому что в этот момент ей позвонили. Она сняла трубку и раздраженно заговорила:
– Да, алло? Мам, не ждите… Я – нормально… Просто уже поздно, переночую у Ксюши… Где я? У Ксюши… Да не жди!.. Что – «Эля-Эля»?!
Старый не сводил с неё внимательных синих глаз. Когда она закончила говорить по телефону, ухмыльнулся.
– Значит – Эля?
Музыка в баре сменилась с “The Rolling Stones” на немцев: заиграл “Das Model” “Kraftwerk”.
– Допустим, – выпалила Элль, удивительно безбоязненно глядя Старому прямо в глаза. – Но для вас – Элль!
Она привыкла, что в движе её знают по прозвищу. Однако, она призналась бы, что из уст Старого её имя – Эля – прозвучало приятно и мягко. Ещё она поняла, что вообще не имеет ни малейшего представления о том, как зовут её спутника – Старый и Старый, как Славик представил. Так-то, а не всё ли равно? Даже если не брать в расчёт то, что она не предполагала когда-нибудь его видеть, Элль не имела привычки произносить вслух чужих имён, словно бы окружающие, в самом деле, были безымянными. Также для неё они были и безликими: Элль было сложно поддерживать зрительный контакт с людьми, оттого она не запоминала лиц. Голос, движения, фигуры – вот из чего в её голове обычно складывался человеческий образ.
«Но в самом же деле, не бывает безымянных людей, – пронеслась у неё в голове мысль. – Интересно, Старый – это фамилия?» – и тут же отдалось громким эхом: «Не бывает!» – так оглушительно, что заложило левое ухо, будто по нему ударили со всей силы. Элль коснулась его бугорком ладони и тряхнула головой.
Старый будто прочитал её мысли (или расслышал голоса в голове).
– Извиняюсь, да я сам ещё толком не представился: Старицкий, Пётр.
Пытаясь угомонить отголоски громкой мысли в голове, всё так же зажимая ухо рукой, Элль вдумчиво повторила его имя:
– Пётр Старицкий – прямо как какой-нибудь боярин. А я – как Всесоюзный староста. Но это неважно.
Старый – вот оно что! и правда, прозвище по фамилии – внимательно смотрел на неё. Элль сидела, сползая с дивана, на самом краю, и всё держалась за ухо.
– Ушко застудили? А вот надо было шапку надевать, – назидательно, как ребёнку, произнёс он.
Элль только отмахнулась, наконец, отняла руку от уха.
Принесли сидр – два стройных полулитровых бокала. В светло-золотистом напитке от стенок откреплялись и поднимались вверх бисеринки-пузырьки. Элль поднесла острый лисий нос к бокалу и вдохнула лёгкий запах подпревших яблок, какой можно уловить в саду в августе-сентябре. На вкус сидр, как и говорил Старый, тоже был неплох. Как август или сентябрь.
Они разговаривали про Карла Маркса и Трирский пивной клуб, про «кабаре Вольтер» в Цюрихе, куда Ленин заходил выпить пива и сыграть в шахматы с Тристаном Тцарой. Говорили о поэзии, об изобразительном искусстве и кино. Говорили об общих знакомых и «Локусе», а за сидром следовали шоты тёплого «Ягермейстера» с дольками апельсина.
– Вообще, меня в «Локус» привёл Кер, – рассказывала Элль, а её голос предательски трясся от упоминания о нём. – Он мой однокурсник.
– Это который?.. – задумчиво насупился Старый.
– Который вначале читал хтонь про панельки и прямоугольники. Высокий блондин, – пояснила Элль. – Он ещё сказал: «читает каждая собака»…
– А, местная знаменитость? – понимающе запрокинул круглую, как яблоко, голову на подвижной гибкой шее Стар. – Ну да, читает неплохо. Но вы – не хуже.
Элль смутилась. А он продолжил:
– Вообще, я сам тоже стихи пишу. Но никогда никому не читал. Вообще – стараюсь не показывать.
– Почему?
– Мне кажется, они недостаточно хороши.
Голос у Старого был вкрадчивый, низкий, такой густой, что даже на расстоянии можно было ощутить, как он зарождается под мощными рёбрами. У Элль от выпитого покруживалась голова. Ей хотелось вытянуть руку, прикоснуться к его груди и поймать в ладонь мягкие бархатистые вибрации. Ещё ей хотелось – на улицу. В пустынном помещении бара, где из посетителей были только они вдвоём, казалось, было очень душно. Хотя бы один глоток свежего воздуха…
Старый тоже раскраснелся, размяк.
– Будете что ещё? – осведомился он у Элль, на что та помотала головой.
– Давайте погуляем.
– Зачем? Здесь можно посидеть до утра. Бар до пяти, но по факту – до последнего посетителя. Давайте посидим, тем более – я вас угощаю!
– Ну вот тоже! – воскликнула Элль. – Сколько там уже вышло? И вообще, в меня уже не лезет, да и здесь душно.
– Ну ладно, ладно, уговорили…
Старый, кряхтя, прямо как настоящий старик, поднялся с места, потянулся, подаваясь вперёд мощным корпусом, завёл руки за голову. Элль копалась в своих вещах, кучей брошенных на диванчик, хотя тут же неподалёку стояла тощая вешалка. Где-то в чёрном пальто потерялся такой же чёрный шарф, чёрная сумка, а полумрак в помещении только усложнял поиск.
Старый достал из своей куртки бумажник и, не глядя, раскрывал его большими руками, говоря:
– Пойду на бар оплачу.
– Угу. Скажите сколько – я верну, как будет возможность.
– Не надо, – отмахнулся Старый.
Они вышли – и дышать стало свободнее. Элль повисла на руке Старого, и они нырнули в пустынные бульвары. Под ногами похрустывал гравий. Стар ходил быстро, а Элль вцепиась в его плечо и семенила следом. При достаточно высоком росте и длинных ногах у неё был маленький, как у японской гейши в длинном кимоно, шаг. В детстве мама говорила, что у настоящей женщины должен быть маленький шаг.
Они шли, топтали хрустящий гравий и разговаривали.
– Я принципиально не состою ни в каких организациях, – говорила Элль
– Тоже правильно.
– Да от меня бы и пользы не было. Я-то и заагитировать никого толком не смогу.
– У-у. А я – могу. Так одну монархистку сделал истовой марксисткой, – гордо начал Старый, но с каждым словом становился всё грустнее. – А потом она ушла в совсем субкультурщину, я посмотрел на неё и подумал: и это я вырастил? Начала встречаться с одним товарищем… Знаете, как это у коммунистов принято – вдвоём любить одну?..
Элль подумала о Кере и крепче сжала локоть Старого. Старого ей стало жалко. И на бульварах стало как будто ещё темнее и пустыннее, и вообще всё вокруг – ощущалось отрешённо, как в мрачном одиноком сне. Мягкий алкогольный туман освобождал рассудок, оставляя саднящую грусть.
Элль чувствовала себя свободно, думая о том, что когда закончится ночь, их со Старым пути разойдутся. Не надеясь запомнить, она посматривала на бледный профиль Стара, как будто клином сходившийся на кончике крупного носа, и думала о том, что есть и очень красивые люди, но они как будто какие-то другие, и не люди вовсе… Она боялась людей, красивых – боится особенно, но одновременно и тяготеет к ним.
Кер – объективно красивый: так считает однокурсница Лена, а ещё так сказала Тая, увидев его фотографии на странице.
Впрочем, Элль и в адрес своей внешности слышала комплименты. Ей это, конечно, льстило, но она держала в голове, что красивых девушек много, потому что славянки, в принципе, считаются красавицами. Та же Тая говорила, что в России красивых мужчин мало, повторяя за известным модельером: мол, весь хороший генофонд полёг на многочисленных войнах. Элль с читала, что на самом деле, это конечно же, бред, потому что воевали, так или иначе, все страны.
Ещё Элль вспомнила про красивого Клима, про которого Тая тоже говорила поначалу, что он – красивый. А потом говорила, что это больной человек. Горькие воспоминания.
– А я не хочу никого любить. Хочу просто, чтобы сейчас было хорошо, а дальше – ничего не хочу, – сказала Элль, держа Стара под локоть и глядя на чёрную, в ночи похожую на мазут, гладь пруда в железобетонной чаше.
Сергей Биец* (1968–2019 гг) – основатель и лидер «Революционной рабочей партии», незарегистрированного марксистского, а именно троцкистского, движения.
Кофейня
Радиальная Москва – заключена в концентрические круги, окольцована: Бульварное, Садовое, Транспортное… Имя им – Легион! В отличие от других мегаполисов, в Московских улицах нет и никогда не было чёткого порядка, и на планах они, например, не рыбий скелет, как Нью-Йорк, а как лабиринт: улицы, улочки, переулки, проезды, сети проходных дворов, тупики… Если в центре зайти в какой-нибудь один двор, то через него всегда можно пройти на ближайшую улицу, срезав путь (но только в том случае, когда нигде не перегородили подворотни).
Свернув с бульваров, Старый и Элль оказались в узкой петляющей улочке, по красной линии которой теснились, плечом к плечу, невысокие дома из разных времён. Ампир, модерн, конструктивизм – все здесь смешались в ленте окон и стен. Старый сказал:
– Мне не нравится Москва. Это какой-то архитектурный бордель.
– А мне кажется интересным отсутствие единства стиля, – возразила Элль. – Но мне не нравятся открытые пространства, ещё – что много машин и мало деревьев. В моём городе не так.
– Да, машины – это беда, – согласился Стар.
Из переулка возникла фигура и, пошатываясь, направилась навстречу молодым людям. Элль испугалась и прижалась к плечу своего спутника, будто бы искала защиты. Фонарь осветил морщинистое, с провалами глаз, лицо престарелого мужчины, окаймлённое белой бородой. Одет он был в светлое пальто, а вокруг шеи обмотал длинный тонкий шарф.
Увидев Старого и Элль, мужчина остановился.
– О! – воскликнул он, словно неожиданно столкнулся со старыми друзьями. – Молодые люди!
От него остро пахло алкоголем, он топтался, пошатываясь на ногах. Выглядел он при этом не представляющим опасности, и Элль немного расслабилась. Старый замер, прижимая её руку локтем.
Незнакомец в пальто икнул. После он полез за пазуху, и в его руках появился ополовиненный пузырёк коньяка.
– Выпьете со мной? – спросил он, протягивая пузырёчек.
Элль и Старый переглянулись.
– Выпейте, – уговаривал мужчина. – Я – поэт, между прочим…
Элль не нашла ничего лучше, чем сказать:
– Я тоже.
Мужчина заинтересованно посмотрел на неё.
– Виктор Мирошников, – представился он. – Можете найти в интернете. Вот, попробуйте, – обратился он к Старому.
Элль взглянула на своего спутника и увидела, что тот достал и включил телефон. Мужчина в пальто встал у него над плечом, дыша спиртягой, водил пальцем над его телефоном среди представившихся ссылок. Когда искомая страница на поэтическом сайте была найдена, вытянулся, подбоченился и самодовольно заулыбался, скалясь железными зубами.
– Ну, выпьете со мной? Если не хотите здесь – можем пройти во дворы.
Элль помотала головой и потянула Стара за собой.
– Извините, но мы, вообще-то, очень торопимся на метро! Пойдёмте, метро скоро закроется, – засуетилась она, утягивая Стара по улице.
– А, ну ладно, если на метро спешите… – расстроено вздохнул мужчина, выпуская горький спиртовой воздух.
Ни на какое метро они не спешили.
Когда престарелый поэт-забулдыга остался за поворотом, Старый произнёс:
– А я бы с этим Виктором Мирошниковым выпил. Нормальный мужик вроде…
– Ну, это без меня, – отказалась Элль.
Петляя тёмными переулками, они как-то вышли на угол Марасейки. Здесь, уютно, как маяк в сырой морской ночи, в темноте светили большие окна круглосуточной кофейни. У Элль замёрзли и гудели колени, так что она была непротив присесть где-нибудь в тепле.
В кофейне было пусто. Единственный официант-бариста скучал за баром. Элль выбрала столик у окна, чтобы смотреть на Марасейку, и прошла на диванчик. Вопреки её ожиданиям, Старый сел не напротив, а на тот же диванчик, что и она.
– Я буду двойной эспрессо, – заказала Элль у официанта.
– Мне то же, – сказал Старый.
Так как посетителей больше не было, маленькие чашечки кофе принесли быстро. Они попивали горький эспрессо маленькими глотками, сидя вплотную друг к другу, так что от тепла соседнего тела делалось жарко, но не разговаривали. Элль смотрела в окно, но видела только своё нечёткое отражение в стекле, за которым – пустынная тёмная улица и редкие глаза фонарей. Она устала, но домой не хотелось. В обществе Старого было хорошо, и хотелось бы, чтобы так продолжалось вечно. Думать о том, что как только наступит утро, они разойдутся и больше никогда не встретятся, не будут писать друг другу даже по праздникам, было грустно. Элль осторожно спросила:
– Можно прилечь на ваше плечо?
Старый разрешил.
Элль склонила голову, слегка навалившись на него. Плечи у Старого были широкие, мощные, но сутулые, оттого и – более округлые. Щека Элль соприкоснулась с грубоватой шерстью пиджака, пропахшей терпким одеколоном. Никто не видит, никто не знает, уж тем более – Кер, что ей так нравится лежать на плече этого парня, которого она видит впервые в жизни. Ей так хочется прикосновений: потому что прикосновения к другим людям соединяют её с бытием. Тепло человеческого тела – зыбкий мостик между её больным сознанием и действительностью.
Неровное дыхание, тёплое сопение Старого у неё над ухом… Крепкая рука, в которой замер хруст гибких суставов, скользнула по её пояснице. Из-за своего квадратного корпуса Стар выглядел ещё крупнее. По сравнению с ним Элль чувствовала себя маленькой, и это успокаивало её. Ей хотелось, чтобы все молодые люди были крупнее неё, чтобы могли спрятать её, укрыть, защитить. Она просто с детства привыкла видеть в жизни, а потом, правда, только на фотографиях, разницу в росте у почти двухметрового отца и довольно миниатюрной матери, но в итоге, коварная генетика хладнокровно последовала собственным принципам. Так, Элль уродилась крупной, высокой и с длинными пальцами, какие обычно бывают у парней. Когда Старый коснулся её руки, она ужаснулась: их пальцы оказались одинакового размера…
Старый сцепил руки у неё на талии и притянул к себе. Тогда, поддавшись какому-то порыву нежности, Элль неловко поцеловала его в щёку, но промахнулась, и её губы кольнули короткие жёсткие волосы на виске. Старый умильно улыбнулся и по-стариковски добро взглянул на неё синими глазами. Она таких синих – и не видела никогда, наверно.
– Как быстро… – по-кошачьи протарахтел он, и у него внутри рёбер, как у кота, мягко провибрировал резонатор.
И он развернулся, загораживая Элль плечами, сильнее обхватил за талию и одной рукой откинул назад с её лица скользкую чёрную прядь. Оцепенение раскинулось мурашками по её телу. Она прикрыла глаза и решила: что бы сейчас ни происходило, она поддастся.
Влажное дыхание согревало её шею. Шероховатые губы Старого касаются её кожи, уверенно устремляются по шее вверх. На них смотрят, смотрят – ну и пусть. Элль выпускает тихий стон наслаждения – и его перехватывают шершавые, влажные, с кисловатым привкусом кофе, губы Старого. Элль приникает ближе к нему, отвечая на поцелуй.
Потом они стояли на площади у вестибюля метро и видели женщину с трёхгранным ключом, которая выходила открывать стеклянные двери, стояли на пустой станции и долго ждали первого поезда. Они сошлись на том, что молодость бывает только один раз, чтобы не думать, будто мы могли сделать что-то не то. И когда пустой утренний автобус увозил Элль от розового рассвета, у неё на душе было легко, как будто она проснулась в солнечный день из сказочного сна. Она увозила с собой тонкое послевкусие этого приключения – привкус кофе, терпкий запах мужского одеколона и знание, что эта ночь уже никогда не повторится.
Вокзал
– Что хуже: феминистка или коммунист? – услышала за спиной Эля и невольно сжалась, опустила голову, скрывшись за волосами.
Студенты выстроились в очередь в тесной лаборантской, и за Элей стояли два её одногруппника. Уже одно их присутствие поблизости заставляло Элю напрягаться и тревожиться, а когда они начинали говорить, тем более, о том, что было ей неприятно, – хотелось вообще провалиться сквозь землю. Она не была достаточно смелой для того, чтобы обернуться и гордо воскликнуть: «Да, это я! И что вы сделаете?» – хотя очень хотелось. Осталось лишь крепко сжать длинное горлышко колбы. Жаль, стекло слишком толстое и не треснет в руке.
На мгновение Эля увидела кровь на своих пальцах и на горлышке колбы – живую, алую. Значит – всё-таки, успела порезаться? Тёплые рубиновые струйкии, пульсируя, растекались по рукам, пропитывали белые манжеты халата. Эля вскрикнула – и пальцы разжались. Резкий хруст и звон стекла – это остроугольные осколки рассыпались по полу, стекло заблестело в стыках плиток. Разномастные вытоптанные узоры на полу поплыли у Эли перед глазами.
Все затихли. Взгляды присутствовавших в лаборантской устремились на Элю. И основатель кафедры со своего портрета тоже смотрел на неё – разочарованно. А Эля застыла, поднеся руки к лицу. Она поняла, что если порезалась – то почему-то не чувствовала боли; всматривалась в тонкие линии и складки на ладони, словно в первый раз.
Никакой крови.
Её руки были чистые.
Подошёл преподаватель, отделившись от очереди студентов – тоже в белом халате. Это был низкий щуплый мужчина с бледными глазами, а на затылке у него тусклые волосы, как опушку, обступили загорелую плешь. Преподаватель строго осмотрел Элю, опустил глаза на осколки и вздохнул:
– Что ж, собирайте. Веник и ведро – в углу. Вы не порезались?
Эля помотала головой.
– Хорошо. Как закончите – берите новую колбу и возвращайтесь к нам, – произнёс преподаватель, заложив руки за спину.
«Возвращайтесь», – услышала Эля и отозвалась сиплым, только проклюнувшимся голосом:
– Хорошо, – и опустила дрожащие руки.
Преподаватель, одногруппники, аспирантка – выглядели какими-то неестественными. Массивная старинная мебель в лаборантской, остеклённый вытяжной шкаф, в котором светились струйки газа из горелок, бутыли с реактивами, посуда – всё было декорациями, фальшивкой. Эля неловко собирала веником осколки, пропустив вперёд тех двух парней-одногруппников, и не верила, что её рука сжимает древко метёлки. Что она делает здесь?
На полу, чуть закатившись под лабораторный стол, лежала не разбившаяся каплевидная крышка от колбы. Эля подняла её – застывшую стеклянную каплю, полую – и стала с интересом рассматривать, перекатывая в руках. Крышка оказалась лишь слегка треснувшей.
– Пусти, – попросила одногруппница с такой же круглодонной колбой в руке, какую только что разбила Эля.
У неё в колбе на дне болталась навеска какой-то муки, залитой концентрированной кислотой.
Одногруппница выглядела пластиково.
Посторонившаяся Эля заметила, что и у неё самой руки как будто пластиковые – а такие же не могут кровоточить.
Значит – глюки.
И то, что она пластиковая, ведь тоже – глюки: она же двигается, дышит, её глаза видят… Её глаза видят одногруппников в белых халатах, теснящихся между столами, высокие закруглённые окна, за которыми качаются жёлтые прозрачные листья клёнов, дистиллятор над старой эмалированной раковиной, узорчатую плитку… Разбитое стекло.
Эля механически сунула крышку от колбы в карман халата. Такие каплевидные стеклянные крышки, которые неплотно закрывают колбы, нужны, чтобы испарения при озолении распределялись по сосуду равномерно и медленно выходили.
Девочка ставила круглодонную колбу в чугунную подставку над горелкой. При нагревании серная кислота реагировала с органическим материалом и раствор приобретал тёмно-коричневый оттенок – оттенок разложения. Колба оставалась на огне, пока реакция не пройдёт полностью – и тогда раствор должен обесцветиться.
Эля аккуратно сметала осколки, веник словно наглаживал вытертую и затоптанную старинную плитку в кружевнх узорах. Стекло вперемежку с сором со звоном упало в мусорную корзину. Эля отправилась в лабораторию за новой колбой. По пути она остановилась в коротком тёмном коридоре и на мгновение ослепила себя включенным экраном телефона – последнее время каждое свободное мгновение она обращалась к нему.