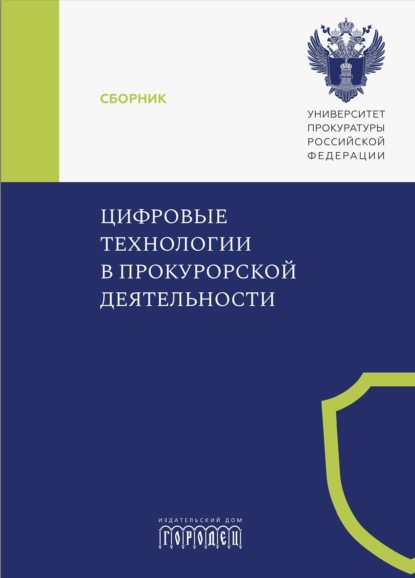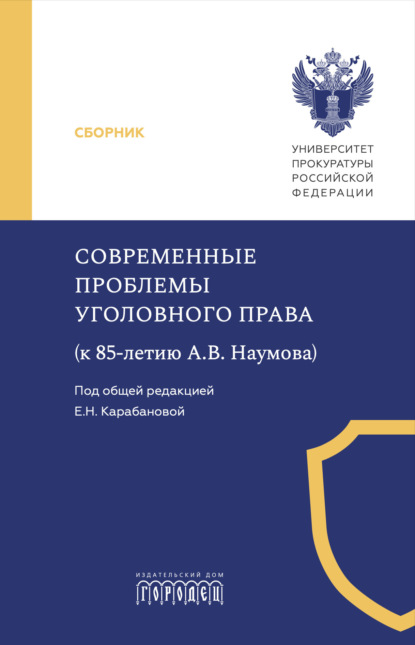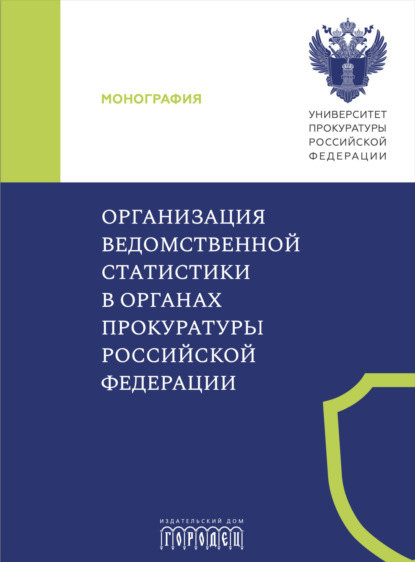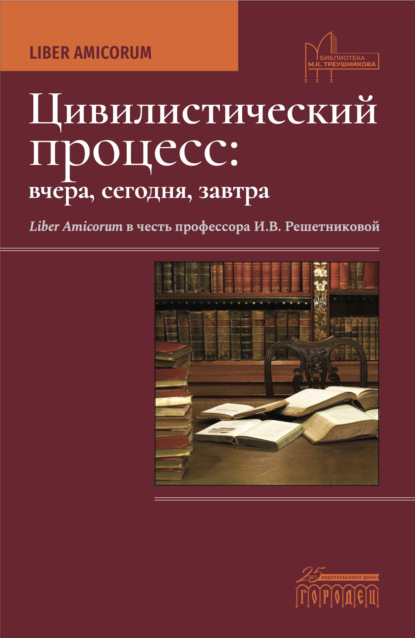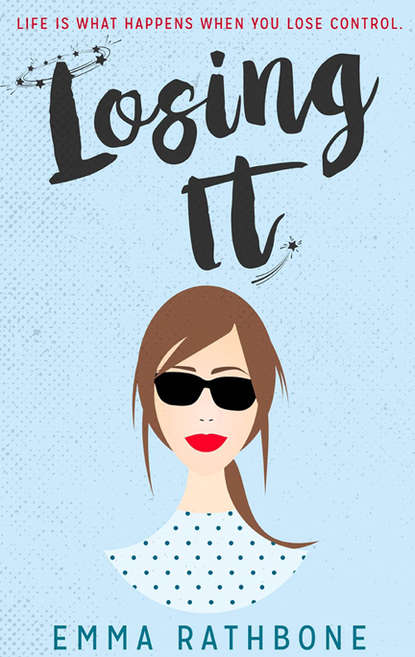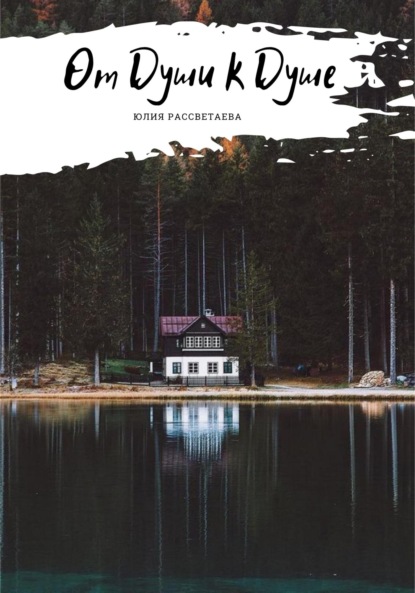Правосудие в современной России. Том 2
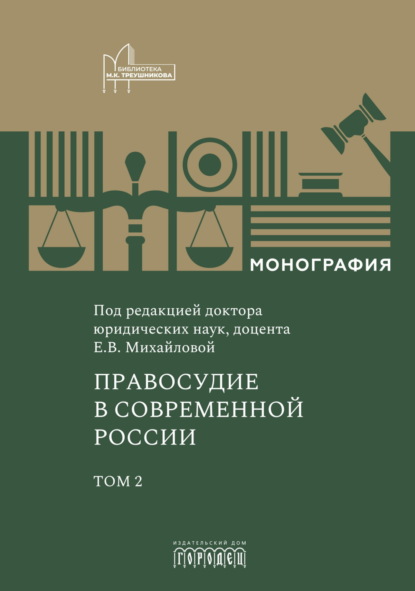
- -
- 100%
- +
После принятия КАС РФ главнейшими задачами науки административного права остаются исследование и уяснение «социальной ценности административного судопроизводства и его структуры как формы осуществления судебной власти», осмысление «административного судопроизводства в структуре административно-процессуального института»[57].
Как уже многократно отмечалось, представители науки гражданского процессуального права и административного права по-разному смотрят на природу «норм и институтов, регулирующих административное производство»[58]. Отстаивается мнение, что установленные в КАС РФ нормы необходимо относить из-за «своей природы» к гражданским процессуальным[59], – их невозможно представить даже как подотрасль, скорее это «среднее звено в системе гражданского процессуального права»[60]. В число аргументов таких утверждений включается схожесть характерных черт этапов перечисляемых автором трех производств в суде первой инстанции (исковое производство; производство, возникающее из административно-правовых отношений; особое производство), а именно: возбуждение и подготовка гражданского дела к судебному разбирательству, его рассмотрение и разрешение[61]. Однако при этом вновь не обращается внимание на различный правовой характер и особенности гражданских и административных дел, как бы презюмируется как встроенность административных дел в систему гражданских дел, так и универсальность процессуальной формы для их разрешения. А этапы, стадии и прочие процессуальные правовые институты могут быть действительно одинаковыми по наименованию, структуре, юридическому значению в процессе, процедурным свойствам. Если подходить только с указанных процессуальных позиций, например к уголовному судопроизводству, то также можно утверждать, что разрешение уголовных дел происходит в рамках весьма похожих процедур, стадий и этапов… Так недалеко и до констатации, что вообще все виды судебной процессуальной деятельности обладают равными характеристиками и могут быть объединены одной и той же процессуальной формой. Однако ирония, сомнительность и очевидная несерьезность наших суждений вполне понятна. Использование такой логики формирования вывода – это демонстрация самой возможности построения такой системы определений, доводов, обобщений.
К тесному сотрудничеству и единству науки и практики призывают и процессуалисты. Здесь весьма интересен и продуктивен выдвигаемый профессором Л.В. Тумановой тезис, относящийся как к оценке административного судопроизводства, так и выявлению его значения в деле развития общего процессуального права. Речь идет о признании административного судопроизводства, которое находится «в одном ряду с гражданским и уголовным процессом»; при этом оно, «как наиболее молодое», должно «стать в определенном смысле вектором развития и совершенствования процессуального законодательства в целом»[62].
Ученые-административисты с самого начала развивали идею о необходимости «расширения междисциплинарных подходов в изучении административного судопроизводства, в том числе путем сближения позиций с наукой гражданского процесса»[63]. Например, Л.А. Калинина пришла к такому выводу в 2015 г., т. е. сразу же после принятия КАС РФ, ставшего, по мнению автора, итогом «научных разработок и накопленных знаний о правовой политике в области административной юстиции»[64]. Таким образом, «междисциплинарные взаимодействия», поиск совместных решений и выработка надлежащих концепций совершенствования российского законодательства об административном судопроизводстве – главные направления конструктивной деятельности по решению возникающих коллизий как понимания административного судопроизводства, так и судебного правоприменения.
Трудно обойти вниманием тот факт, что в условиях уже 10-летнего действия КАС РФ и обеспечения Верховным Судом Российской Федерации единообразия судебной практики по административным делам посредством формирования правовых позиций в постановлениях своего Пленума так и не произошло «всплеска» научной активности по исследованию проблем административного судопроизводства. Пока нет оснований для утверждения о значительном росте числа диссертационных работ, монографий, научных статей, написанных по вопросам понимания и применения норм КАС РФ. Думается, одним из сдерживающих факторов (как бы это и не могло показаться странным) ослабления исследовательской активности ученых в данной сфере процессуальных правоотношений и является предельно низкая оценка КАС РФ и отрицание его содержательной состоятельности очень авторитетными и крупными учеными нашей страны. Если на протяжении многих лет целенаправленно, методично развивать и аргументировать один и тот же тезис, особенно перегруженный отрицательными характеристиками критикуемого правового института, то со временем данный тезис приобретает «преюдициальные» черты и становится уже мощным фактором, усиливающим избранный подход к принижению роли соответствующих норм и принципов (в данном случае – это КАС РФ) и уменьшению их юридического значения. В то же время, как это и встречается на практике, отрицающие какой-либо институт или даже концепцию утверждения могут развивать инициативу и стать стимулом к активизации исследовательской работы по проблемам административного судопроизводства, КАС РФ и их взаимодействия с другими видами процессуальной судебной деятельности. По мнению ученых, следует формировать «понимание самостоятельности административного судопроизводства», а при развитии теории административного судопроизводства пытаться находить свой собственный путь и проводить научную работу с опорой на «фундаментальные процессуальные исследования»[65].
Административное процессуальное законодательство (административное судопроизводство) будет и в ближайшей перспективе развиваться под непосредственным влиянием юридических новелл из материального административного права. Ведь когда речь идет о порядке рассмотрения административных дел об оспаривании административных актов, то недостатки материального и процедурно-правового регулирования порядка принятия и действия административных актов (по сути, отсутствие Федерального закона «Об административных процедурах») оказывают влияние и на разрешение административных конфликтов, вызванных применением административных актов. В этом смысле авторы правильно развивают идеи об установлении и обеспечении единообразия административноправовой и административно-процессуальной терминологии, критериев оценки законности указанных актов, действий (бездействия) и признания их незаконными (недействительными)[66]. Иными словами, соответствующие положения КАС РФ должны быть усовершенствованы, в том числе посредством формирования надлежащего административно-процедурного законодательства.
Глава 2
Реализация принципа справедливости в административном судопроизводстве
§ 1. Природа административного судопроизводства
Принцип справедливости применительно к административному судопроизводству нашел свое закрепление не закономерно, а случайно. Случайность заключается в законодательной воле, во-первых, на выделение публичного судопроизводства из лона судопроизводства гражданского, а, во-вторых, в закреплении справедливости как принципа административного судопроизводства.
При этом нормативное соседство справедливости с законностью ставит вопрос о соотношении этих принципов. Следует отдать должное законодателю за общий ответ на этот вопрос. Речь идет о правильном применении судом норм права, соответствующем фактическим обстоятельствам дела, в результате которого граждане и организации восстановят свои нарушенные права и свободы (ст. 9 КАС РФ).
Для определения специфики реализации принципа справедливости в административном судопроизводстве требуется, во-первых, определиться с природой публичного судопроизводства в современный период. Во-вторых, уточнить основные параметры принципа справедливости.
Появление в конце XX в. производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, ознаменовало собой новый этап понимания прав и свобод человека. Такое появление признало возможность осуществления публично-правовыми образованиями своей деятельности вопреки правам и свободам участников общественных отношений.
Причина таких изменений носит не столько политический, сколько социальный характер. Речь шла не о том, что ведущая политическая сила того времени в одночасье отказалась от защиты интересов граждан и всего общества, вопреки ее руководящей и направляющей роли. Имеется в виду понимание того, что результаты государственной властной деятельности по объективным причинам могут входить в противоречие с текущей социальной практикой. Риск возникновения таких противоречий и их количество не зависят от политического режима. Аксиоматичен вывод о том, что любое развитие общественных отношений опережает темпы регуляторной деятельности, осуществляемой публично-правовыми образованиями.
Противоречия обостряются не только в их абстрактном видении, но и через призму многочисленных конкретных конфликтов, облеченных в процессуальную форму. Суд имеет дело с проблемами реализации и защиты прав и свобод в конкретном месте, при конкретных условиях и в конкретное время. Именно эти обстоятельства послужили причиной появления возможности в судебном порядке оспорить властные волеизъявления государственных органов и должностных лиц.
В отечественной практике возможность оспаривания результатов государственной властной деятельности была предусмотрена в ГПК РСФСР 1964 г. Впоследствии такая возможность нашла свое развитие в рамках обновленного гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства.
Формирование процессуальной формы приобрело экстенсивный характер. На первом этапе в рамках действовавших тогда ГПК РФ и АПК РФ их соответствующие разделы определяли общие правила производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
В дальнейшем, произошло нормативное обособление публичного судопроизводства в форме кодифицированного процессуального акта. Но принятием КАС РФ дело не ограничилось. До настоящего времени в его рамках продолжается появление новых процессуальных регламентов разрешения различных административных дел, которые, по мнению законодателя, призваны укрепить процессуальные гарантии судебной защиты прав.
На рубеже XX–XXI вв. такой подход был прогрессивным по той причине, что впервые в отечественной истории заинтересованным лицам был предоставлен подобный комплекс прав, сопровождаемый процессуальными гарантиями. В этом смысле он носил важный символический и мировоззренческий характер.
Символизм заключался в придании формально равного статуса гражданину, организации и представителю мощного государственного аппарата. По крайней мере, в рамках судебного разбирательства.
Мировоззренческое значение появления процессуальной возможности состязания граждан, их объединений с государством заключается в придании судебной защите универсального характера, которая охватывает не только самостоятельные частноправовые требования, подлежащие рассмотрению по правилам гражданского судопроизводства, но такие из них, удовлетворение которых связано с проверкой результатов государственной властной деятельности.
В современный период само по себе наделение гражданина или организации правом на судебное оспаривание результатов государственной властной деятельности нормативного и ненормативного характера недостаточно для реализации конечного субъективного гражданского права.
Еще полтора-два века назад судебный порядок разрешения конфликтов не знал разделения на виды судопроизводства. Общеизвестно то, что уголовный процесс выступал родоначальником процесса гражданского. Представители дореволюционной доктрины полагали, что гражданский, административный и уголовный процессы формируют систему судебного права[67].
В этой связи не следует забывать о циклическом развитии процессуальной формы. Зародившись в Древнем Риме, она начала образовывать многочисленные ответвления (формулы), каждая из которых соответствовала характеру материально-правового требования.
Рецепция римского права в Средние века носила рациональный характер и воспринимала только то, что удовлетворяло текущим потребностям того общества и государства. Формирование централизованных государств требовало выработки унифицированных правил разрешения судами споров, хоть и с некоторым учетом традиций континентального и общего права.
Появление новых поколений прав в результате Французской и Октябрьской революций в целом не изменило подход к процессуальной форме как к универсальному инструменту судебного рассмотрения требований любого характера.
В современный период отечественный цивилистический процесс переживает противоречивые тенденции своего развития, в рамках которых окончательное понимание административного судопроизводства, несмотря на его нормативное обособление, еще не утвердилось.
Т.Е. Абова, которая относилась к числу современников постепенного выделения публичного судопроизводства из гражданского судопроизводства, сомневалась в рациональности подобного обособления по причине отсутствия в тот период не только специального процессуального регламента, но и административных судов[68].
Текущий законодательный подход к административному судопроизводству не дает исчерпывающего ответа на вопрос о его природе, но он может быть получен при обращении к конституционному пониманию прав и свобод, а также к соотношению публичных и частных интересов.
Конституционный подход к правам человека состоит в том, что они представляют высшую ценность, а потому составляют смысл деятельности государства. Поскольку права и свободы для государства носят смысловой характер, постольку административное судопроизводство на фоне гражданского судопроизводства представляет собой вспомогательное средство восстановления и защиты нарушенного права.
Вспомогательный характер публичного судопроизводства, с другой стороны, подтверждается универсальной природой цивилистической процессуальной формы[69], и не предполагает такого дробления правил разрешения судами многочисленных конфликтов, соблюдение которых привело бы к умалению самого права на судебную защиту.
Универсальность определяется здравым смыслом, при котором законодатель устанавливает общие черты разрешения судами споров, а конкретные процессуальные действия определяются судом. Речь идет о перечне лиц, подлежащих привлечению судом к разрешению дела, специфике доказывания по конкретному делу, не говоря уже о судебной оценке доказательств, порядке принятия и исполнения итогового судебного акта.
Публичные интересы, на страже которых стоят все государственные органы, не противоречат пониманию прав и свобод как высшей ценности. Если под публичными интересами понимать результат длительного обобщения множества частных интересов, согласование и учет которых на разных уровнях государственной регулятивной деятельности обеспечивают сохранение общества, то противоречия отсутствуют и на материально-правовом уровне. Суд, разрешая индивидуальный спор частноправового характера, одновременно формирует сложную структуру публичного интереса.
В таком подходе проявляется как вспомогательная, служебная роль самого государства, его регулирующей и распорядительной функций, так и следующая из этого вспомогательная природа производства по делам, возникающим из публичных правоотношений как логическое продолжение публичного материального права в процессуальной плоскости.
На прикладном уровне вспомогательная природа государственной властной деятельности заключается, во-первых, в том, что эта деятельность не влияет на существо самого права гражданина или организации, которое должно быть реализовано. Регуляторная природа государства лишь опосредует реализацию участниками правоотношений своих прав и свобод. Различной является степень такого посредничества.
Если речь идет об использовании участниками любых общественных отношений их позитивных регуляторов, то посредническая роль государства одновременно носит и всеобъемлющий, и гибкий характер. Гибкость состоит в том, что закон и другой нормативный правовой акт могут быть оспорены в судебном порядке при выявлении их противоречий объективно сложившимся общественным отношениям.
Государственное посредничество может обретать более узкие и конкретные рамки и облекаться в форму индивидуальных актов, которые именуются ненормативными. Однако ни масштаб содействия государства гражданам и организациям в реализации и защите их прав и свобод, ни формы такой деятельности не влияют на характер процессуальной формы, которая подлежит применению судом в случае судебного состязания гражданина с государством.
Поэтому разрешение публично-правовых споров должно происходить через призму их содействия конечной цели в виде защиты субъективного гражданского права. Исследование специфики действия принципа справедливости в рамках публично-правовых споров происходит с учетом их оценки как промежуточного этапа на пути конечной защиты субъективного гражданского права. Пусть даже этот промежуточный этап получил нормативное закрепление на данном этапе развития цивилистической процессуальной формы.
Такое понимание природы административного судопроизводства позволяет определиться с методологическими основами его исследования через призму принципа справедливости.
§ 2. Общая характеристика принципа справедливости
Реализацию принципа справедливости в административном судопроизводстве рационально исследовать применительно не к его обязательным и факультативным стадиям, а с точки зрения природы полномочий публично-правовых образований и их реализации в зависимости от характера рассматриваемых требований. То есть применительно к основным группам категорий публично-правовых споров.
Следует оговориться, что, несмотря на законодательное выделение новых процессуальных правил разрешения судами общей юрисдикции административных дел, представляется допустимым в качестве основных их категорий рассматривать дела об оспаривании нормативных правовых актов, а также дела об оспаривании актов индивидуального характера (действий, бездействий, решений).
Все остальные категории дел, получившие нормативное закрепление в КАС РФ и АПК РФ, по своей природе имеют такую же природу, что и основная группа публично-правовых споров в лице оспаривания универсальных (нормативных) индивидуальных (ненормативных) актов государственных органов.
Например, оспаривание кадастровой стоимости недвижимого имущества потенциально связано не только с оспариванием решения государственного органа об установлении такой стоимости, используемой в качестве налоговой базы, но и с оспариванием нормативных правовых актов, которые используются публично-правовыми образованиями в ходе принятия подобных решений: законом об оценочной деятельности, градостроительным и земельным кодексами и т. д.
Аналогичная природа характерна для групп административных дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией общественных объединений, ограничением распространения в обществе определенной информации или ограничением свободы определенных категорий физических лиц.
Посредническая деятельность государства, которая является предметом судебного контроля, заключается в определении правил функционирования политический партий, некоммерческих организаций, охраны здоровья граждан и содействии обществу в ограничении доступа к деструктивной информации. Эта деятельность носит как нормативный, так и ненормативный характер. Поэтому дела об оспаривании результатов такой деятельности являются основополагающими для остальных категорий дел, продуцируемых законодателем.
Несмотря на то, что принцип справедливости не получил прямого законодательного закрепления в отраслевых нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность многочисленных государственных органов, он остается им присущим в силу природы роли государства в современном российском обществе.
Процессуальные требования в лице публичного судебного разбирательства в разумный срок, равноправии и состязательности сторон представляют собой потенцию. Несмотря на то, что это минимальные процессуальные гарантии, которые одновременно являются и принципами цивилистического процесса, они представляют собой только предпосылки, предварительные условия справедливого разрешения спора.
Важно то, каким содержанием суд наполнит эти важнейшие элементы процессуальной формы, какое воплощение эти процессуальные гарантии найдут в материальном компоненте судебной защиты нарушенного права.
В этом смысле под справедливым судебным решением понимается такой судебный акт, которым материальные права и обязанности участников спорного правоотношения распределены адекватно, т. е. пропорционально нарушенному субъективному праву, его характеру, последствиям такого нарушения, вкладу сторон в возникновение конфликта, включая смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Из подобного умозаключения следует вывод о важности справедливого перераспределения судом не только процессуальных прав и обязанностей сторон сообразно характеру спорного правоотношения, но и такого же перераспределения правомочий материально-правового характера. Значение имеет не только справедливое судебное разбирательство (потенция), но и его справедливый исход (результат).
Справедливое с внешней (процессуальной) точки зрения судебное разбирательство бессмысленно, если его рассматривать в отрыве от достижения конечной цели правосудия.
Отличием процессуального перераспределения прав и обязанностей от материально-правового является то, что процессуальное перераспределение направлено на формирование полноты фактического компонента спора для его последующей судебной оценки на предмет определения правой, т. е. адекватной меры прав и обязанностей, возлагаемых на каждого из участников спора.
Поэтому известные процессуальные принципы цивилистического процесса в целом и административного судопроизводства, – в частности, в доктринальном понимании выступают процессуальными предпосылками справедливой судебной защиты нарушенного права, а в практическом – инструментами, направленными на соблюдение условий справедливого распределения судом между сторонами материально-правовых прав, обязанностей и ответственности.
Универсальный характер процессуальных инструментов принципа справедливости определяется еще и тем, что их набор и потребность в них обусловлены здравым смыслом, а именно, объективной необходимостью в том, чтобы суд установил значимые для дела обстоятельства для разрешения спора.
Процессуально-правовые предпосылки принципа справедливости являются инструментами достижения материально-правовой справедливости, а потому должны иметь с последними прямую связь. Материально-правовые условия реализации принципа справедливости определяются алгоритмом деятельности суда. Он находит свое процессуальное воплощение в стадиях судебного разбирательства, отражается в процессуальной деятельности, а его результаты объективируются в судебном решении.
Алгоритм судебной деятельности определяется доминирующей правовой идеологией, которая, в свою очередь, зависит от правовой семьи, к которой принадлежит государство.
Несмотря на все многообразие типов правопонимания, основными являются естественный подход к правам и свободам и юридический позитивизм. Последний господствует в отечественной системе права в силу принадлежности России к континентальной правовой семье.
Однако правовая идеология должна коррелироваться с общественной идеологией, которая находит свое воплощение в фундаментальном правовом акте – Конституции. Конституция РФ провозглашает высшую ценность прав и свобод человека, заполняет ими всю деятельность государства и определяет ими смысл существования государственных органов. Из этого фундаментального постулата следует ряд основополагающих выводов.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См., например: Административное судопроизводство: учебник / под ред. М.К. Треушникова. М., 2017. С. 4.
2
Корф С.А. Административная юстиция в России. Кн. 2. Очерк действующего законодательства // Административная юстиция: конец XIX – начало XX века: в 2 ч. Ч. 1: хрестоматия / сост. Ю.Н. Старилов. Воронеж, 2004. С. 685–686.
3
Корф С.А. Административная юстиция в России. Кн. 2. Очерк действующего законодательства. С. 691–692.
4