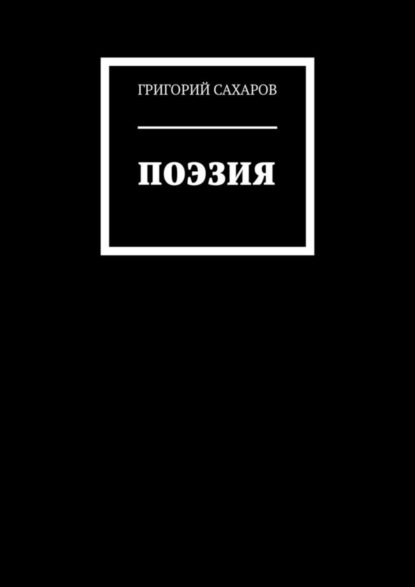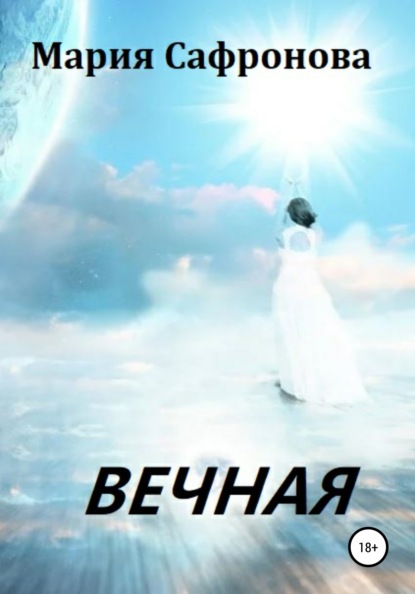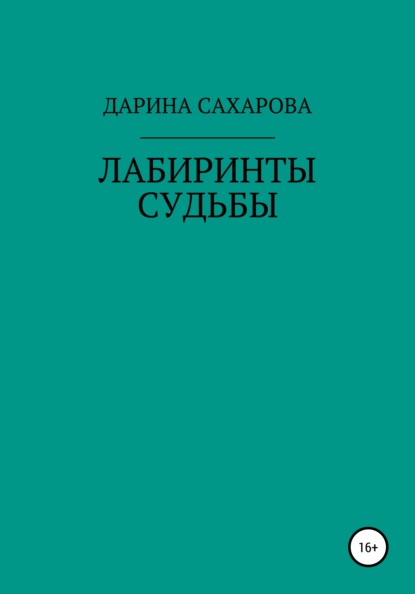Русская цивилизация в ожидании нового Кузьмы Минина
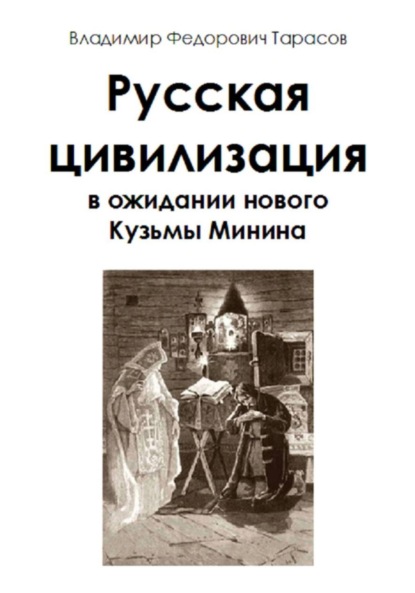
- -
- 100%
- +
Хотя в России есть Либерально-демократическая партия, идеологией которой декларируется патриотический либерализм, почему-то время от времени в стране предпринимаются попытки создания еще какого-то национального либерализма, в котором призывы к свободе были бы согласованы с патриотизмом. Возможно, это отчасти связано с тем, что в российском обществе распространены представления о либерализме, имеющие мало общего с реальностью.
Самую впечатляющую, пожалуй, попытку создания патриотического либерализма вне ЛДПР предприняла группа депутатов партии «Единая Россия». 4-го февраля 2013 года был опубликован «Манифест российского политического либерализма» – «О создании Либеральной платформы в партии «Единая Россия».
2.1. В России путают либерализм с псевдолиберализмом
В манифесте было сказано, что «Ставшие в России привычными либеральные взгляды являются до странности узкой версией либерализма, в силу этой узости почти не подразумевающей собственно свободы. … На базе такого понимания либерализма возникло несколько политических течений, которые следовало бы классифицировать как псевдолиберализм и которым мы считаем принципиально важным отказать со своей стороны в статусе собственно либеральных».
Но платформа так и не была создана, и проект тихонько сошел на нет. Возможно, из-за того, что авторы Манифеста критиковали политику финансовых ведомств России за то, что она, по их мнению, ограничивает свободу экономической деятельности, характеризуется запредельной ставкой рефинансирования и основанными на ней ставками банковского сектора, не поощряет вложение денег в инновационное развитие и вообще отечественные инвестиции, оперирует исключительно узким кругом инструментов денежного рынка, сужая финансовую базу экономики, и т. д. Эта критика во многом актуальна и в настоящее время, но в 2013 году Минфин и Банк России, осуществляющие такую политику, приобрели наибольшее влияние и начали вместо осуществления инвестиций в национальную экономику накапливать валютные резервы. Те самые, половину которых заморозили за рубежом в 2022 году.
Еще до депутатов попытку формирования новой версии патриотического либерализма предпринял экс глава правительства и министр иностранных дел Евгений Примаков. В Российской газете за 17 декабря 2012 года была опубликована его статья «Современная Россия и либерализм». В ней он подверг критике людей, которые встали у штурвала власти в России после развала СССР и назвали себя либералами, и дал им название: псевдолибералы: «Следующая встреча с либерализмом произошла после развала Советского Союза, когда лица, называвшие себя либералами, уже встали у штурвала власти. … В начале 90-х годов псевдолибералы призывали государство вообще уйти из экономической жизни».
Он называл псевдолиберализм также неолиберализмом, но первый термин более точно отражает суть той идеологии, которая была привнесена в Россию под видом либерализма, указывая на ее ложный характер.
В качестве национальной идеи, которая мобилизовала бы российское общество в его движении в будущее, Евгений Примаков предложил «объединение социально ориентированной политики и экономики с истинно либеральными ценностями».
Но и этот призыв российская общественность не услышала, что, пожалуй, имеет свою причину (помимо усиления позиций псевдолибералов в финансовой сфере государственного управления): непонимание российским обществом того, что представляет собой либерализм. В качестве примера типичных представлений о нем у среднего образованного россиянина рассмотрим «Манифест публицистического общества «Факел свободы», размещенный в интернете 27 марта 2020 года молодыми людьми, которые решили заняться политикой и придумать национальный либерализм, совместив патриотизм и лозунги свободы, равенства и братства (их имен я не называю, потому что не уверен, что в настоящее время они являются публичными людьми, и вообще не знаю, чем они занимаются). При этом ни на ЛДПР, ни на манифест депутатов – единороссов 2013 года, ни на Примакова, авторы данного Манифеста по неизвестным причинам не ссылались.
То, что они написали про либерализм, является блестящей иллюстрацией хаоса, который в настоящее время царит в головах образованных россиян, как молодых, так и не очень.
О псевдолиберализме авторы второго Манифеста ничего не написали, отметив, что «Главные принципы либеральной философии были изложены в трудах Джона Локка, Жана Жака Руссо, Адама Смита, Шарля Луи де Монтескье, Томаса Пэйна, Людвига фон Мизеса, Вильгельма фон Гумбольдта, Джона Милля, Фридриха фон Хайека и других», а в качестве либеральных теоретиков отметили Адама Смита, Джона Локка и Герберта Спенсера.
Это перечисление уже говорит о многом. Дело в том, что если Джон Локк, Адам Смит и Джон Стюарт Милль являются учеными – теоретиками либерализма, то, например, Герберт Спенсер – не либерал, а открытый социальный дарвинист, а Людвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек – псевдолибералы, которые по сути являются скрытыми социальными дарвинистами. Именно о взглядах последних и писали авторы Либеральной платформы в партии «Единая Россия» и Евгений Примаков.
В то же время, во втором Манифесте приведены некоторые совершенно правильные определения свободы в либерализме: «На развитие понятия либеральной свободы сильно повлиял Джон Милль и его труд «О свободе». … Милль, как и прочие идеологи, выдвигает основной либеральный принцип, что ваша свобода кончается там, где начинается свобода другого …, а также «Проявлять власть над членом цивилизованного общества против его воли допустимо только с целью предотвращения вреда другим». В Манифесте отмечено также, что Локк и Милль признавали, что «свобода не есть вседозволенность».
А вот точку зрения на свободу Фридриха фон Хайека авторы Манифеста не описали, возможно, потому что не знали. Свои представления о либерализме Хайек изложил, в частности, в лекции «Индивидуализм и экономический порядок. Глава 1. Индивидуализм: истинный и ложный», прочитанной им в Дублине в 1945 году. Там он написал, в частности, что «Индивидуализм … отказывает также правительству в праве накладывать ограничения на то, чего может достичь талантливый или удачливый человек. Он равно враждебен любым попыткам жёстко ограничивать положение, которого могут достигать индивиды – независимо от того, используется при этом власть для увековечения неравенства или для создания равенства». Вот так вот: никаких ограничений и ни слова о необходимости предотвращения вреда.
Запрет любых попыток правительства ограничить положение индивидуума, которое том может достичь, без учета того, наносит оно вред другим людям или нет, и есть вседозволенность. То есть Хайек фактически ставит знак равенства между свободой и вседозволенностью, а значит придерживается точки зрения, прямо противоположной взглядам Локка и Милля. Ограничивать достижения талантливых или удачливых, по его мнению, правительству нельзя в принципе. Герберт Спенсер тоже был сторонником подобной вседозволенности, он откровенно писал о необходимости естественного отбора, в процессе которого более способные и предусмотрительные человеческие особи выживут, а менее – вымрут, за что и заслужил репутацию социал-дарвиниста.
Никакой свободы для широких масс населения, предполагающей защиту от вреда, который им могут нанести способные, талантливые, предусмотрительные и удачливые люди, псевдолибералы Хайек и Спенсер в принципе не предполагают, чего авторы второго Манифеста, похоже, не поняли.
2.2. Русская версия либерализма начинается от Льва Сапеги и Ивана Грозного
Они не оценили еще одну азбучную истину либерализма, которая также описана Джоном Стюартом Миллем в работе «О свободе». Это положение у него сформулировано следующим образом: «свобода не применима как принцип при таком порядке вещей, когда люди еще не способны к саморазвитию путем свободы». Кроме того, он отметил, что: «Государство должно уважать свободу каждого индивидуума во всем, что касается исключительно самого этого индивидуума, но при этом оно обязано иметь самый бдительный надзор над тем, как индивидуум пользуется властью, которой оно дозволяет ему иметь над другими людьми». Государство, по мнению Милля, должно осуществлять не только надзор: «каждый член цивилизованного общества только в таком случае может быть справедливо подвергнут какому-нибудь принуждению, если это нужно для того, чтобы предупредить с его стороны такие действия, которые вредны для других людей, …»
Таким обр азом, можно сформулировать требование к человеку, которого допускается освобождать от государственного контроля и управления: он должен быть способным к свободной жизни без нанесения вреда другим людям. Назовем это принципом Джона Милля, хотя прямо в таком виде принцип ученым не был сформулирован, и, возможно, в приведенных выше рассуждениях он имел в виду не совсем то, что вложено в этот принцип нами.
Тем не менее, этот принцип соответствует вполне очевидному общему закону природы: если человек не понимает, что он не должен вредить другим людям, его действия необходимо контролировать и ограничивать. Например, этот принцип действует на транспорте: человеку предоставляется возможность свободно водить автомобиль в том случае, если он сдал экзамен на знание ПДД, и получил права, подтверждающие то, что он может водить автомобиль, не нанося вреда себе и другим людям. Или другой пример: детям нельзя разрешать играть со спичками до тех пор, пока они не поймут, что спички – это не игрушка. Это тот же закон, только в другой сфере деятельности.
Если вернуться к принципу свободы Милля, то можно заметить, что в обществе имеются отношения не между двумя субъектами – государством и гражданами, а между тремя: государством, гражданами, которые могут вредить другим людям, и гражданами, которые могут пострадать от первых.
Это тоже хорошо известно. В частности, канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега в предисловии к третьей редакции Статута ВКЛ (свода законов типа Конституции), изданного в 1588 году, выделил именно эти группы. Он написал, что государь правит не по своей собственной воле, а согласно праву. Одновременно канцлер подчеркнул, что право ограничивает свободу не только верховного правителя, но и свободу людей богатых да сильных: «Вот и придумано удило для обуздания каждого своевольного человека, чтобы боялся ответственности за каждое учиненное насилие и злоупотребление, и не возвышал бы себя над слабым и убогим, и притеснять бы их не мог. Ибо право для того и поставлено, чтобы не всё вольны были бы чинить богатый да сильный …».
Льва Сапегу не принято считать русским либералом, хотя в его эпоху ВКЛ было русским государством, а Статут был написан на русском языке, который тогда был единственным государственным языком княжества. Канцлера принято считать прозападным деятелем, однако его либерализм очень сильно отличался от представлений, которые в то время главенствовали в европейских странах, и которые в целом еще не были либеральными. Настоящие либералы в Западной Европе появились позднее – Джон Локк, Адам Смит, Джон Стюарт Милль и другие. Поэтому Лев Сапега в своих комментариях к Статуту ссылался на Аристотеля и Цицерона, а не на западноевропейских мыслителей.
То есть либерализм в русский мир пришел не из Западной Европы, а вместе с христианством из Восточной Римской империи. И Лев Сапега представлял во многом вовсе не западные идеи, а собственные, характерные именно для русской цивилизации.
На Руси в то время также велась дискуссия о правах богатых да сильных в отношении слабых и бедных (убогими в то время называли бедных), и царь Иван Грозный в своих письмах князю Андрею Курбскому подробно обсуждал этот вопрос (хотя именно таких терминов не использовал). Более того, царь стремился ослабить вседозволенность великих княжеских родов и ограничить их возможность причинять вред своим подданным. То есть он действовал в соответствие с принципами либерализма (в меру условий, имевших место в его время), хотя его часто считают деспотом. На деле, с точки зрения либеральных представлений, он был прогрессивным и либеральным правителем для своего времени.
Такой вывод может показаться странным, но тут уместно упомянуть мнение Джона Стюарта Милля, который писал, что «Деспотизм может быть оправдан, когда идет дело о народах варварских и когда при этом его действия имеют целью прогресс и на самом деле приводят к прогрессу». Именно такой случай имел место в России 16 века, и именно таким был деспотизм Ивана Грозного, который не только сам ограничивал вседозволенность княжеской знати, но и развивал земскую власть, защищающую права слабых и бедных от сильных и богатых, а также поддерживал православие, которое ограничивало власть как сильных и богатых, так и его самого. Тем самым он поднимал страну на новый уровень цивилизованности и был прогрессивным деятелем (для своего времени).
То, что ему удалось осуществить в России, описал один из интервентов в период Смуты 17 века Самуил Маскевич, который вел дневник в 1610–1611 годах. Он поделился там следующим наблюдением: «В беседах с Москвитянами, наши, выхваляя свою вольность, советовали им соединиться с народом Польским и также приобресть свободу. Но русские люди отвечали: «Вам дорога ваша воля, нам неволя. У вас не воля, а своеволие: сильный грабит слабого; может отнять у него имение и самую жизнь. Искать же правосудия, по вашим законам, долго: дело затянется на несколько лет. А с иного и ничего не возьмешь. У нас, напротив того, самый знатный боярин не властен обидеть последнего простолюдина: по первой жалобе, царь творит суд и расправу. Если же сам государь поступит неправосудно, его власть: как Бог, он карает и милует. Нам легче перенесть обиду от царя, чем от своего брата: ибо он владыка всего света».
Иван Грозный создавал систему власти, в которой царь был защитником простых людей от своеволия знатных бояр. Что и гарантировало простым людям свободу. Подобное понимание свободы можно обнаружить в книге одного из основателей либерализма английского мыслителя Джона Локка «Два трактата о государственном правлении», изданной в 1690-м году: «хотя это есть состояние свободы, это тем не менее не состояние своеволия; хотя человек в этом состоянии обладает неограниченной свободой распоряжаться своей личностью и собственностью, у него нет свободы уничтожить себя или хотя бы какое-либо существо, находящееся в его владении, …». Простые русские люди понимали это задолго до великого английского мыслителя.
Важно то, что Иван Грозный стремился ограничить власть знатных бояр не в силу природной склонности к тирании и не для достижения абсолютной власти над боярами и простым людом как самоцели, а для того, чтобы обеспечить простым людям своей страны свободу. В такой формулировке он сам свою деятельность не охарактеризовал, но понимал, что он защищает простых людей от своеволия знати. В письме князю Андрею Курбскому в 1564 году он написал: «Так же неприемлемо и ваше желание править теми городами и областями, где вы находитесь. Ты сам своими бесчестными очами видел, какое разорение было на Руси, когда в каждом городе были свои начальники и правители, …»
И русские люди это понимали. Ведь они на вопрос Самуила Маскевича ответили, что выбрали неволю, не потому что они любят царя и жить без него не могут, а потому, что царская власть эффективнее защищает их интересы, чем воля, которая имеется в европейских странах, и которая на самом деле не воля, а своеволие. И они, кстати, были полностью правы, так как, повторим, самодержавие на тот период истории было лучшей формой государственного управления, причем именно с точки зрения фундаментальных принципов либерализма. Что доказала история: страна свободной шляхты – Речь Посполитая в итоге была разделена между тремя монархиями. И причиной ослабления и распада Речи Посполитой была именно недостаточная защита слабых и бедных от своеволия сильных и богатых, о чем свидетельствует хорошо известная история Богдана Хмельницкого, который отказался служить короне и возглавил восстание казаков как раз после того, как пострадал от польского шляхтича, а польский король отказал Хмельницкому в защите его свободы.
Таким образом, Льва Сапегу и Ивана Грозного можно с полным правом считать не только первыми русскими либеральными государственными деятелями, но и либеральными мыслителями. Их объединяет то, что они выделяли в обществе три группы – центральную государственную власть, сильных и богатых, а также слабых и бедных, и оба считали необходимым ограничивать свободу сильных и богатых наносить вред слабым и бедным (с учетом условий того времени, разумеется), хотя и предлагали разные способы ограничения. Сапега выбрал способ (право), для эффективной реализации которого в тогдашнем обществе не было условий, поэтому свобода слабых и бедных оказалась недостаточно хорошо защищена Статутом от сильных и богатых, в то время как царь нашел более подходящий для того времени способ защиты свободы широких масс граждан страны – самодержавие.
Оба государственных деятеля понимали также и то, что предложенные ими системы государственного управления могут успешно функционировать только при некоторых условиях. Так, Лев Сапега учитывал, что предложенная им система права, ограничивающая свободу сильных и богатых, требует защиты от них. Поэтому он дал следующие рекомендации гражданам ВКЛ по выбору членов судов: «И, имея вольности свои, правом хорошо защищенные, следите за тем, чтобы в суды и трибуналы выбирать людей добрых и сведущих в тех правах наших, богобоязненных и добродетельных, …». То есть, в дополнение к праву он предполагал еще и контроль общества за институтами, реализующими это право, причем исходя из приверженности религии и нравственным нормам.
А Иван Грозный понимал необходимость существования механизма, ограничивающего власть самодержца некоторыми нравственными и религиозными нормами. В частности, его духовник Афанасий написал Степенную книгу, в которой была рассказана история русских царей, причем они были представлены примером святости, праведности и благочестия. Примером – как для будущих самодержцев, так и в целом для сильных и богатых.
Указанные особенности представлений двух русских государственных деятелей об управлении обществом дополняют друг друга – как два сапога, левый и правый, которые по некоторым качествам принципиально отличаются друг от друга, но должны использоваться вместе, парой, что обеспечивает устойчивость при ходьбе. Для успешного функционирования государства, нужны сильные органы центральной власти, которые должны подчиняться не только праву, но моральным и другим нормам, устанавливаемым некоторыми институциями и институтами (типа Степенной книги и религией). Аналогично и свобода сильных и богатых должна быть ограничена не только центральной властью, но и правом, реализация которого связана с некоторыми дополнительными условиями (в частности, отбором судей по их моральным и религиозным качествам).
История доказала правоту Ивана Грозного в тот исторический период: Россия стала великой державой, в то время как Великое княжество Литовское прекратило существование, причем именно из-за притеснения сильными и богатыми слабых и бедных. Но отчасти прав был и Лев Сапега: право также необходимо для защиты свободы слабых и бедных, причем и оно должно контролироваться со стороны религии и морали. Он только переоценил возможности тогдашнего общества контролировать исполнение права и власть судов. То есть его деятельность является примером ошибок в осуществлении благих намерений, а не попыткой нанести какой-то вред своему народу. Говоря образно, он не учел, что в тот исторический момент, когда он хотел опереться на левую ногу, она была слишком слабой, и недооценил возможности правой ноги.
Описанные выше особенности либерализма носят принципиальный, определяющий его характер, и без их указания говорить о нем невозможно. В некоторых современных версиях псевдолиберализма также провозглашается необходимость ограничения как государственной власти, так и элиты со стороны права (правил), однако неявно предполагается, что сильные и богатые имеют возможность свободно менять эти правила по своему усмотрению, без контроля со стороны религии и морали. Более того, в настоящее время сильные и богатые сформировали специальную систему управления демократическими институтами и правом в своих интересах, а не в интересах общества, о чем подробнее будет написано в разделах 14.1 и 19.2.
2.3. Русская версия либерализма: акцент на защите слабых и бедных от вседозволенности сильных и богатых
Акцент на отношениях государства не только с сильными и богатыми, но и последних со слабыми и бедными является, пожалуй, отличительной чертой русского национального либерализма, который был давным-давно реализован в виде некоторых писанных и неписанных норм государственного управления.
В 16 веке Россия вместе с другим русским государством того времени – ВКЛ, пожалуй, даже опередила в этом отношении другие европейские страны, включая признанного лидера либерализма – Англию. Хотя в ней первая конституция – знаменитая Хартия вольностей «Magna Carta» была принята в 1215 году, она тогда трактовалась как документ, защищающий права высшего дворянства, то есть богатых и сильных, от короля. Там имелись и положения, регулирующие отношения богатых и сильных со слабыми и бедными, но они носили формальный и второстепенный характер, и на них никто не делал такой акцент, как Лев Сапега и Иван Грозный. Только в начале 17 века главный судья Англии Эдвард Кок попытался распространить Великую хартию вольностей на всех подданных государства, интерпретировав ее как документ, устанавливающий права не только высших слоев общества, но и всех граждан.
Поэтому английский либерализм на самом деле сформировался только в конце 17 века и в 18 веке, что было связано, в частности, с деятельностью таких ученых, как Джон Локк и Адам Смит. И на практике в западных странах идеи либерализма внедрялись в весьма ограниченных пределах. Даже в те периоды их развития, когда в умах ученых победили либеральные представления, они были внедрены лишь частично. Но тогда и до сих пор в мыслях многих, хотя и не всех, европейских ученых и политиков либерализм в первую очередь соотноситься с защитой свободы элиты от государства, а не народа от элиты, несмотря на труды указанных и других представителей либерализма.
Это отличие подходов русских либералов от западных псевдолибералов проявлялось в разных формах. Например, Александр Герцен в «Письмах об изучении природы», опубликованных в журнале «Отечественные записки» в 1845–1846 годах, написал такое мнение о тогдашней Западной Европе: «Феодализм пережил реформацию; он проник во все явления новой жизни европейской; дух его внедрился в ополчавшихся против него; … Феодализм грубый, прямой заменился феодализмом рациональным, смягченным; феодализм, веровавший в себя, – феодализмом, защищающим себя, феодализм крови – феодализмом денег». То есть, в то время как западные люди, ошибочно считавшие себя либералами, радовались свободам, которые получали капиталисты, русский либерал вовсе не разделял энтузиазм сильных и богатых, добившихся для себя свободы угнетать слабых и бедных.
Тем не менее, в западных странах время от времени либерализм побеждал и в умах, и в государственном управлении. В частности, это произошло после Второй мировой войны, когда там под влиянием версий настоящего либерализма – социального либерализма и ордолиберализма – была построена социальная рыночная экономика. При этом использовался подход к государственному управлению Льва Сапеги, в рамках которого был установлен общественный, государственный и политический надзор за сильными и богатыми, основанный на религиозных и моральных принципах.
Но после развала СССР Запад вернулся к вседозволенности. Еврокомиссар по внутреннему рынку Мишель Барнье в 2019 году сказал, что «… Европа … допустила фундаментальную ошибку, когда начался процесс глобализации, когда перестал существовать двухполярный мир, где с одной стороны был Советский Союз, а с другой – США. Мы увидели, что начался успешный процесс глобализации, что люди смогли выйти из крайней нищеты. Но в то же время возникла идея, что теперь все возможно, ультра-либерализм».
В России тоже либеральные идеи в сфере государственного управления постоянно подменялись псевдолиберальными. Царская власть далеко не всегда защищала слабых и бедных от сильных и богатых должным образом, одно крепостное право чего стоит. В то же время, надо учитывать, что ужесточение этого права в первой половине 18 века (в ходе и после царствования «европейского» царя Петра) сопровождалось возложением на помещиков ряда обязанностей по отношению к крестьянам. Был принят целый ряд указов, обязавших помещиков кормить крестьян в годы неурожая и голода, не допускать их обнищания, и даже позволявших отстранять помещиков от управления имением и назначать над ним опеку. К тому же, сохранялось и крестьянское самоуправление в форме общины.