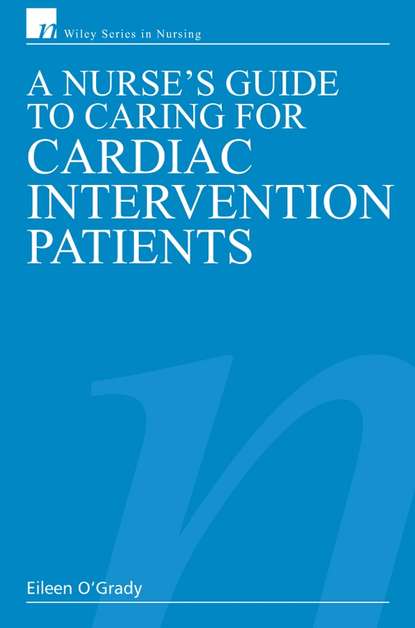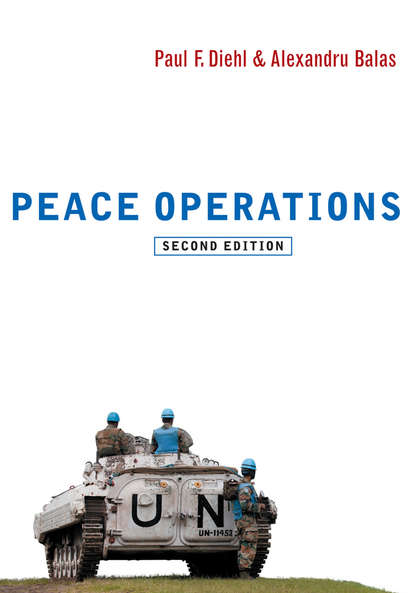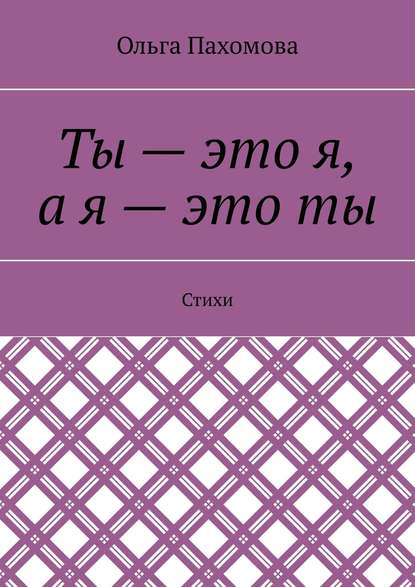В броне по дорогам жизни. Воспоминания офицера-танкиста
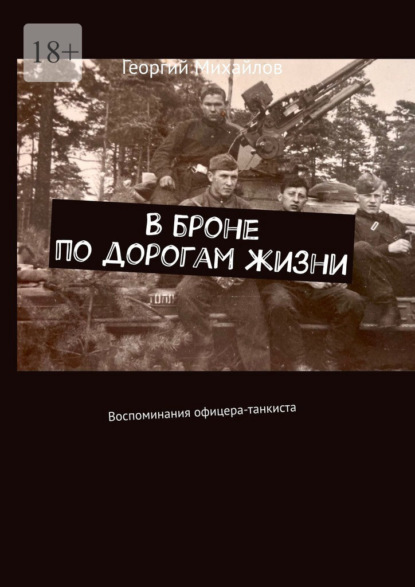
- -
- 100%
- +
Со временем и даже очень скоро у наших горожан при виде этих немцев не возникало злобы, желания отомстить, бросить камень в них и т. д. Конечно, многие наши люди говорили и думали: «Ну что? Победили? Так вам и надо!» Эти слова не носили характера ярости, скорее это была констатация факта и гордость за Красную Армию. И чисто по-человечески у некоторых бабушек при виде этих немцев-шахтеров и при всех вышесказанных мнениях была жалость к этим уставшим «Фрицам». Сейчас уже не вспомнить сколько лет они находились у нас в плену и на работах после окончания войны. Возможно, не более двух лет.
Первый класс школы пройден. Наступили первые школьные летние каникулы. Мама к этому времени уехала к отцу, которого с августа 1944 года перевели по службе в Киевский военный округ в 107-й запасной стрелковый полк 21-й стрелковой дивизии. В начале лета она вернулась домой за мной, и мы вновь поехали к отцу. Младший брат Владимир остался на попечении тетушек, бабушки и дедушки.
Воинская часть, в которой служил отец, располагалась в районе города Белокоровичи. Самого городка я толком не видел. Возможно дом, где мы жили, принадлежал воинской части. И действительно – тут квартировали одни военнослужащие. Сам дом двухэтажный, кирпичный. Мы жили на втором этаже с балконом, от которого остались только две торчащие из стены рельсы, служившие основанием балкона. Мне открывать дверь на балкон запрещалось.
В сотни метрах от жилых и служебных домов начинался лес. Втроем, под вечер, после служебного дня отца мы недалеко ходили в этот лес. Там-то впервые я увидел, как растут грибы, и мне сказали, как они называются. Мама иногда их жарила к ужину и даже стала мариновать.
Однажды во время прогулки отец выбрал полянку в небольшой низинке и сказал, что сейчас постреляем из пистолета. Все офицеры тогда еще при себе носили табельное оружие. У отца был пистолет ТТ (Тульский Токарева). Батя нашел там же старую консервную банку, поставил ее метрах в восьми от нас с мамой. Вынул пистолет, перезарядил и передал маме. Кратко объяснил, как и куда целиться и как нажимать спусковой крючок. Мама выстрелила дважды. Не помню – попала ли. Да это и не так важно. Сам интерес – стрельнуть! Я не думал, что отец разрешит и мне стрельнуть. Он сам сказал: «А теперь ты!» Так же выделил и мне два патрона, перезарядил и повторил для меня порядок прицеливания и стрельбы. Пистолет для меня показался тяжеловатым, и отец показал и подправил под рукоятку «ТТ» еще и мою левую руку. В том возрасте мог ли я надежно совместить своими ручонками на середину банки мушку вровень с прорезью прицельной планочки?! Но пару раз впервые стрельнуть из боевого пистолета, это уже здорово!
Вскоре воинскую часть перевели в другое место, и мы с мамой и другими людьми без отца в товарном поезде, но подготовленном для перевозки людей, добирались к новому месту службы отца. В конечном итоге оказались в большом украинском селе Васюково. Поселились в бедноватой хате одиноких, но не старых дедушки и бабушки. Домик их был небольшой, и нам предоставлялось место для сна на полу большой комнаты. Первая же ночь оказалась для нас крайне беспокойной. Столько кусачих блох, черненьких, прыгающих созданий ни раньше, ни потом я еще не видел! Днем родителям местные жители сказали, что надо нарвать полыни и на ночь устелить ею полы, на которых будем укладывать постель для сна. Что и было сделано. И действительно, блохи, очевидно, обиделись на нас – ушли, больше не беспокоили. А запах полыни мне даже нравился.
Вскоре я познакомился с местными детьми, быстро подружились и играли во всякие «тамошние» игры. Наступил август, в садах созревали фрукты, а у наших хозяев во дворе ни одного фруктового дерева. Чуть наискось от «нашего» дома через дорогу улички у других людей во дворе поспевали красивые груши. Так хотелось их поесть. Мама дала мне один рубль и сказала: «Вот, пойди и попроси хозяев продать тебе грушу.»
Пришел к калитке их забора и стал ждать – когда кто-нибудь выйдет из дома. Вышел из дома мужчина, и я стал его робко звать. Он подошел. Отдавая рубль, попросил его продать мне грушу. Он пошел и нарвал груш столько, сколько их помещалось в его ладонях, вновь подошел ко мне и все отдал, денежку не взял. Я поблагодарил его и, держа в подоле рубашки груши, довольный, пошел к маме.
Однако наступила пора собираться к отъезду. Надо было возвращаться в Новошахтинск для подготовки к новому учебному году во втором классе.
Начинать учебу во втором классе мне пришлось в другой школе – начальной. Возможно, это было связано с территориальным расположением нашей улицы самого нашего дома ближе именно к этой школе. Житейские проблемы при учебном процессе почти не изменились. Более того – ни чая, ни мамалыги уже никому не давали. Так же зимой было холодно и далеко не сытно с едой.
Учились в нашем классе все как-то «тупо», все одинаково. Звезд, как теперь говорят, не было. Хорошо помню, что за «двойки» и неуспеваемость никого сильно не ругали. Почти в каждом классе начальной школы неуспевающих оставляли на второй год. Будучи уже взрослым, я задавал себе вопрос о причине низкой успеваемости почти всех учеников начальных классов. По-моему, я нашел эту причину. Ведь мы, дети, во время войны, да еще при оккупации, никаких витаминов не получали. Сахара не было. Кровь, мозг и весь организм для развития не получал почти никаких необходимых компонентов. Помню, как осенью занимаешься дома, готовишь уроки, а в квартире холодно. Печь топили чуть-чуть, экономя уголь. Кушать хочется. Идешь на кухню, вскипятишь воду в кружке, бросишь туда несколько сушеных абрикосов. Это чай! Попьешь – и опять за уроки. А есть все равно хочется.
В эти первые годы после окончания войны не сразу и не так быстро наладились производство и продажа продовольствия. Надо отдать должное и благодарить жителей деревень. Они быстрее восстановили свое домашнее хозяйство. Мы, горожане, в первые послевоенные годы все покупали на рынке. Бабушка и дедушка даже поросенка в складчину со знакомыми людьми купили для нашего питания. Да и денег у людей не было. Рабочие места надо было создавать. Для нашего города это означало немедленное восстановление угледобывающих шахт.
Когда я уже писал эту свою «летопись», мне из Новошахтинска моя одноклассница Светлана Павловна Каратеева прислала вырезку из нашей городской газеты «Знамя шахтера». Предоставляю читателям дословно сведения из этой газеты, касающиеся результатов послевоенного налаживания работы шахт.
«…И, конечно, с первых дней началась работа по восстановлению шахт. Уже в августе 1943 года город был награжден переходящим Красным знаменем обкома ВКП (б) за досрочное восстановление шахт, а через несколько дней горнякам треста „Несветайантрацит“ было вручено знамя Южного фронта. Ордена и медали получили сотни рабочих и инженеров.»
Вот от середины «сороковых» годов ближе к «пятидесятым» жизненный уровень стал заметно улучшаться. Зарплата у шахтеров стала вполне приличная. Надо сказать, что правительство страны организовывало снабжение населения наших промышленных районов продовольствием из других районов.
Вспоминаю, как на нашем базаре появились в продаже грибы в двух больших деревянных бочках – засоленные грузди, маринованные сыроежки. Многие жители, да и вся наша родня сначала с недоверием и настороженностью отнеслись к этим грибам. В нашей семье – кроме моего отца, который родился и жил в юности в городе Орел, в тех более северных районах находятся и лесные зоны, что и способствовало отцу с детства познать грибы. Кстати, грибы были привезены из Горьковской области. Батя дважды посылал меня с бидончиком за грибами на рынок.
Когда дня через два новошахтинцы раскушали грибы и одобрили, то через последующие два дня бочки были опустошены.
В этой части главы я упомянул об отце. Дело в том, что, описывая проблемы питания, снабжения города продовольствием, по хронологии в данном случае это охватывало период с 1945 по 1949 годы. Отец с конца августа 1946 года был демобилизован и вернулся в Новошахтинск. В ноябре 1946 года он уже работал на шахте им. ОГПУ в должности помощника главного механика шахты. Вскоре нам дали квартиру на нашей же Ворошиловской улице в доме напротив квартиры (семьи прокурора), в которой мы с мамой и младшим братом Владимиром жили в период оккупации.
Все годы обучения в начальной школе со второго по четвертый класс, своим однообразием не отложили в моей памяти положительных событий и впечатлений. Однако остались впечатления по другим поводам. На каникулах после второго класса научился плавать, да и то не в округе Новошахтинска. Не было у нас поблизости ни речки, ни какого-нибудь водоема. В Красном Сулине, у бабы Наты, куда меня на лето «сплавляли», сад и огород их как раз располагались у речки. Там, до дрожи всего тела от бесконечного ныряния, прыгания в воду и т. д. с местными ребятами и девчонками беспечно и счастливо проходили «пацанячие» летние дни.
А вот летние каникулы в 1947 году перед четвертым классом запомнились на всю жизнь… И уже много лет, до достижения зрелого возраста, все осознав, благодарю Господа Бога всю жизнь…
И что же произошло?
Гуляя по палисаднику нашей Ворошиловской улицы, я увидел в земле округлую полоску какого-то красноватого медного цилиндрика. Расковыряв землю, вытащил небольшую медную трубочку с торчащим из нее фитильком. Другой конец трубочки оканчивался монолитным с трубочкой донышком. Первоначально подумал, что это аккуратно вмонтированный фитиль для разжигания огня от кремния и огнива. Сейчас никто и понятия не имеет, как раньше получали огонь, особенно курящие. Спичек почти не было, а если и доставались одна-две коробочки, то хранили их бережно потому, что утром надо было затапливать печь, если она за ночь успела вся прогореть. Вот курящие мужики и вернулись к методу добывания огня начала восемнадцатого века, а может и более ранних веков. Для этого надо было иметь камень – кремень, округлую, сплетенную из грубых хлопковых нитей, бечевочку, разлохмаченную с одного конца и стальную полоску толщиной около трех миллиметров, длиной от десяти сантиметров и шириной – чтобы пальцами руки в середине полоски ее удерживать и надежно и сильно ударять по кремнию, выбивая искру. Держа в левой руке кремень с приложенным к нему разлохмаченным торцом, ударяют огнивом так, чтобы искры попадали на фитилек. Искры, попадая на фитилек, слегка его подпаливали. Оставалось только чуть раздуть огонек.
Спустя несколько дней, я «вернулся» к своей находке. Огнива и кремния у меня не было, и я решил подпалить фитилек от печки у бабушки в летней кухне. Трубочка эта, пролежав в земле зиму и весну, набрала влагу, и фитилек никак не подпаливался и не тлел. Но я был пацаном, упертым на всякие приключенческие дела. И вот, как-то даже неожиданно, из фитилька с резким шипением вылетел «остро-узкий» снопик искр.
Вот это да! Какая красота!
Мне подумалось, что, если фитилек вытащу и поменяю концы его местами в трубочке, то «новый» конец фитиля снова даст такие красивые искры. (Глупый был до невозможности.) Так и сделал. Подпаливаю, но фитиль искр больше не дал, но начал быстро тлеть, а трубка быстро нагревалась. Вышел из кухни и с трубочкой пошел к порогу дома. Разогретую трубочку уже не мог держать в руке и бросил на деревянную площадку у порога дома. В это время мама дает мне большой куль ватина, стянутого веревочкой и говорит отнести его по такому-то адресу одной женщине – портнихе, которая шила маме к зиме пальто. Мама стояла передо мной слегка слева и держала куль, который как бы заслонял ее от лежащей трубочки.
– Хорошо, – говорю я, – вот только сейчас выброшу эту трубочку, а то от нее нет больше никакого толку.
Я делаю шаг вперед к трубочке, нагибаюсь с протянутой правой рукой, чтобы взять ее, а потом куда-нибудь выбросить. В этот момент – взрыв! Увидел резкое пламя. Боли я не почувствовал. Мама – в плач, потащила меня в летнюю кухню смывать кровь водой. В летней кухне стояла ванна, наполненная водой. (Тоже мне фельдшер – кровь водой смывать!) Обмывает, а кровь все равно идет. Теряет сознание. Тетя Женя стала маму водой обмывать, чтобы она в сознание пришла и… тоже сознание теряет. Я тупо смотрю на эту кутерьму и выхожу из кухни. Наверное, был в шоке – шатаясь, дошел до куста смородины и лег около него. Сознание не потерял, но был в каком-то тумане. Встал, сам вытер кровь, но она уже не подтекала. Почувствовал – что-то под правым глазом мешает. Подошел к зеркалу и увидел, что в нижнем веке торчит продолговатый осколочек. Вытащил пальцами. Осколочек узкий, длинной миллиметров шесть. Засел неглубоко, но у самой кромки нижнего века, едва не касаясь глазного «яблока». Еще немного, и не было бы для меня никакого танкового училища… Кстати, у мамы ни одного осколка – заслонили ватин и я, нагнувшись к детонатору. О том, что это был детонатор к тротиловой шашке (или другим детонирующим взрывным устройствам), я узнал, когда уже учился в Саратовском танковом училище на занятиях по военно-инженерной подготовке. А «фитиль» – это бикфордов шнур.
Постепенно все пришли в себя, и мама решила повести меня в поликлинику показать врачу – не остались ли в теле осколки?
На следующий день пошли в поликлинику, так как в день ЧП все были в шоке. При подходе к поликлинике как раз и встретили «специалист-медика», к которому шли. Я не знаю, кем по специальности работала та молодая женщина – врачом или медсестрой. Сейчас убедитесь, что толку от нее никакого…
Мама начала разговор с ней, но не сразу о причине нашего посещения поликлиники, а как-бы делая вступление в разговор. Женщина как-то сразу радостно похвалилась, что вышла замуж. Мама ее поздравила и потом кратко сказала – по какому поводу мы шли в поликлинику, а затем попросила ее осмотреть меня – нет ли на теле (или в теле?!) осколков и пр. «Специалист» посмотрел – внимательно глянула на мое лицо, внимательно посмотрели друг другу в глаза: «Нет ничего. Все в порядке» – констатировала она. На этом врачебный осмотр меня был закончен. Откровенно говоря, я, уже повзрослев, удивлялся действиям мамы (Прости меня, мама)
Ну, хорошо, была только акушеркой, но какие-то медицинские принципы действий после такого «взрывного» воздействия она должна была знать. Тем более, что батю после ранения сама перевязывала. Я, несмышленыш, тоже посчитал, что со мною все в порядке.
Через несколько деньков я неожиданно почувствовал, что на моей груди что-то царапается. Рукой провожу – колючка что ли? К зеркалу в прихожей. Поставил табурет, чтобы в упор грудь свою видеть, смотрю – маленькие шрамики с торчащими кое-где кончиками осколочков.
О! Сейчас будем себе делать операцию. Взял мамины скальпель, пинцет, одеколон, ватку. Скальпелем слегка шрамик расширял и поддевал осколочек, пинцетом вытаскивал. Намочив ватку одеколоном, тщательно протирал надрезанные, расковыренные места. Не помню сейчас – сколько я их вытащил, но не один-два. Одним словом, как сейчас говорят: «Порядок в танковых войсках!». Однако, тогда я еще не предполагал, что этот опыт мне еще пригодится, и повторю я его дважды – поздней осенью, будучи учеником 4-го класса, и в летние каникулы после 7-го класса.
Ну, уж так и быть – чтобы не интриговать и закрыть эту тему, опережая события и те периоды времени, напишу о медпрактике самолечения.
Ранее уже писал, что в послевоенные годы мы в начальных классах учились почти все не очень хорошо. Из-за того, что наши организмы не получали витаминов, глюкозы и что-то там еще надо, мы были «тупые», соображали слабо. Решая в 4-м классе задачки контрольных работ на уроках, детишки от напряжения грызли концы своих ручек, которыми писали. В те далекие времена ручки были деревянные, имели жестяное обрамление, в которое вставлялось металлическое перо. Перо макали в чернильницу и писали чернилами. Противоположный конец ручки «заманчиво» торчал недалеко ото рта склоненной головки ученика, и он грыз этот конец. А у меня на кисти правой руки между большим пальцем и указательным, где уже почти сходились кости их основаниями, в мягких тканях выпирал чуть заметный маленький бугорок.
В отличие от всех «правильных» детей, которые грызли ручку на контрольных, я в раздумьях над задачей, зубами хватал этот бугорок и машинально его сжимал, покусывая. Так делал всякий раз, когда решал задачку. И вот однажды, придя из школы домой после контрольной, я увидел, что бугорок сильнее выпирает, а из кожи чуть торчит остренький кончик металла. Все понятно. Быстро взял большую эмалированную кружку, налил воды в нее и поставил на печь нагревать. Пока вода нагревалась, подготовил уже известный вам инструмент для «операции». В терпимо горячую воду опустил нужную часть кисти руки.
Размягчил, а дальше метод вытаскивания осколка был уже освоен. Ну, думаю, все! Ан – нет…
Лето 1951 года. Я уже перешел в 8-й класс. В один из выходных дней поздно вечером хорошо помылись горячей водой. Мама постелила свежее хорошо проглаженное постельное белье. Простыня широкая, и местами свешивалась с матраса по всей длине кровати. Накупанный, лезу на кровать. Вдруг слышу – от моей правой ноги что-то зацарапало по плотной добротной ткани простыни. Я – назад, ногу – на стул. Вижу, чуть правее середины передней части голени, сантиметров 12—15 от подъема ноги из кожи торчит осколок. Сон прочь, за дело… Батя видел: «Ну, ну… давай… лечись!»
Ни я первый, ни я последний. Война не оставила никаких шансов для мальчишек, чтобы многие из них не воспользовались «трофеями» – случайно найденными взрывоопасными устройствами, гранатами и прочими опасными предметами. А последствия были пагубные, и большинство трагические. У моего школьного друга Евгения Пристинского детонатор гранаты изуродовал часть ладони и пальцы правой руки.
Последний и мощный взрыв, назовем его аккордным, произошел в Новошахтинске в апреле 1953 года. В один из замечательных весенних солнечных дней я сидел на ступеньках порога дома и с упоением читал книгу А. Дюма «Три мушкетера». Вдруг – мощный взрыв. Ну, взрыв и взрыв – сколько их и раньше иногда было… А потом стало известно – подорвались мальчишки. Нашли за городом противотанковую мину. Принесли в город и у боковой стены Дворца культуры в четырех-пяти метрах от выходной двери кинозала положили ее в разожженный костер. Сейчас я предполагаю, что могло мальчишек спровоцировать на это. В те времена корпуса противотанковых мин делали из древесины. Такая мина представляла из себя небольшой квадратный деревянный ящик. Я могу ошибаться в своих домыслах, но это мое предположение. Пролежав в земле, ящик, наверное, имел далеко не товарный вид, сам напрашивался в костер. Хорошо, что дневной сеанс еще не кончился, и люди были в зале. Мина, брошенная в костер, взорвалась. Ребята, которые были у костра, погибли.
Я ходил потом на то место посмотреть. Кое-где еще были разбросана окровавленная ткань одежды, на стенке здания следы крови. Окончание войны еще преподносило нам трагические сюрпризы.
С окончанием 4-го класса распрощались с начальной школой №6, и вновь был переведен в среднюю школу №1.
Сознательного ума для учебы я еще не набрался, и недостаточное время для подготовки к урокам было характерной особенностью моей учебы. Это привело к тому, что меня оставили в 5-м классе для переэкзаменовки на осень по русскому языку. Для меня это было неожиданностью. И когда на общем собрании в школьном зале в присутствии учеников всех пятых классов и родителей объявили списки учеников, оставленных на второй год и для повторных экзаменов осенью у меня потемнело в глазах. Только сильнейшим усилием воли, чувствуя, что теряю сознание, я переборол себя, медленно возвращая осмысление. Спустя некоторое время получил в школе учебный план для самостоятельной подготовки, а именно – перечень параграфов грамматических правил и номера упражнений для закрепления материала. И тут я впервые проникнулся самой что ни есть серьезной ответственностью. Мне стало стыдно, что я могу остаться на второй год, а мои товарищи, друзья уйдут вперед. Мама и бабушка предлагали мне летом отдохнуть, сказали, что купят путевку в пионерский лагерь на юг у Черного моря. «Нет, – сказал я. – Буду заниматься». И я подошел к этому серьезно и без всяких принуждений. Выполнил все указания и рекомендации учителя. Накануне повторных экзаменов нам даже дали экзаменационные билеты, чтобы мы надежнее подготовились. Я выучил все, кроме одного вопроса о суффиксах имен прилагательных и их правописание. Уж очень нудно и запутанно они произносились и звучали – «уш», «юш»… Он (вопрос) был в последнем билете №28. За это свое легкомыслие я едва не поплатился.
Наступил день экзаменов. Билеты разложены на столе учителя. Иду по вызову к столу, протягиваю руку к выбранному глазами билету, а потом неожиданно, почти бессознательно, беру другой билет, в стороне от первоначального. Билет №28. Благодаря тому, что на все вопросы я подготовился хорошо, экзамены я сдал, и устный, и письменный. Но как из меня эти суффиксы вытягивал учитель – это надо было слышать и видеть. Спасибо «руссишу»! Это учитель, Николай Иванович, а «руссиш» – это его прозвище. Ведь испокон веков всем учителям ученики дают прозвища. Это был замечательный учитель и человек. Мы все его уважали, любили! Ни разу не слышали, чтобы он кричал, кого-нибудь ругал. Он обладал природным волшебством – на уроках его все всегда слушали и слушались. Надо сказать, что с грамматикой у меня всегда были проблемы. С одной стороны, я часто получал «неуд» за диктанты в средних классах, а с другой стороны – меня иногда хвалили за домашние изложения, в старших классах – за сочинения.
Литературу, историю, физику, а в 10-м классе – черчение, военное дело и немецкий язык – я любил.
Но в аттестате по окончанию 10-го класса по русскому языку и литературе Когадовская (преподаватель) все-таки вкатила мне тройки. Спустя много-много лет я понял, что это был сговор. Но об этом опишу в последних разделах.
Начав разговор об учителях- преподавателях, продолжу его, излагая при этом свои личные размышления. На склоне своих лет постараюсь быть предельно объективным, а при самооценке – самокритичным.
Все учителя средней школы №1 на тот послевоенный период были наши – местные, новошахтинцы. Город наш был небольшой, и почти все в радиусе его центра друг друга знали. Думаю, что дружеские отношения горожан хотя и разных сословий составляли единый стержень общего спокойного развития, организации учебных процессов, трудовой деятельности жителей и в целом города.
К сожалению, не все учителя обладали достаточным профессионализмом по своей деятельности, хотя, скажу, что, на мой взгляд, каждый из них был верен своему долгу – учить детей. Но винить их в недостаточном профессионализме на тот послевоенный период было совестно, а то и подло. Судите сами…
Сразу после оккупации с открытием нашей школы немецкий язык преподавала Зоя Игнатьевна. Судьба ее семьи довольно печальная. По историческим событиям надо вернуться к тридцатым годам. В годы «сталинских пятилеток» развитию угольной промышленности придавалось важное значение. «Уголь – хлеб промышленности!» Своих горных инженеров было недостаточно, да и широкого опыта организационных инженерных работ у них не было. С Германией Советский Союз заключил дружественный и торговый Договор. На основе Договора в нашу страну для оказания технической помощи стали приезжать немецкие специалисты. В наш Новошахтинск также приехали немецкие горные инженеры для передачи опыта в организации разного рода работ на угольных шахтах. За одного немецкого инженера Зоя Игнатьевна вышла замуж. Некоторые немцы уже были женаты, и семьи к ним приехали позднее. И все было, в принципе, хорошо и ладно, пока не грянула война с фашистской Германией.
Я не знаю подробностей, к тому же официально о нижеследующих событиях нигде обширно не говорилось и подробно не описывалось. Но вот, что как-то рассказала мне моя супруга, а ей – ее мама – Мария Кондратьевна Дубченко.
Нина жила в семье многодетной, была шестым ребенком в семье. Для лучшего питания ее родители держали в своем хозяйстве всякую живность – кур, уток [, а то и козу или корову. Мария Кондратьевна – женщина добрая, приветливая, со всеми соседями ладила, дружественные отношения возникли и с жившей рядом немкой – женой немецкого специалиста. Они часто покупали молоко у Марии Кондратьевны. Война уже развернулась по всем нашим западным границам. В один из вечеров немка сказала, что завтра она придет за молоком.
Наступило утро. Корову уже подоили и отогнали в стадо, а немка не приходит.
Днем стало известно, что ночью, глубоко за полночь «черный воронок» (так называлась машина, на которой увозили из квартир политически неблагонадежных людей) объехал дома, в которых жили немецкие специалисты – людям дали на сборы какие-то десятки минут и всех увезли…
Не знаю, как эта ночная операция прошла в семье Зои Игнатьевны, но по крайней мере, во второй половине сороковых годов она уже работала в школе и жила без мужа. Не знаю, сколько у них было детей, но сын ее в десятом классе учился и окончил эту школу в 1953 году.