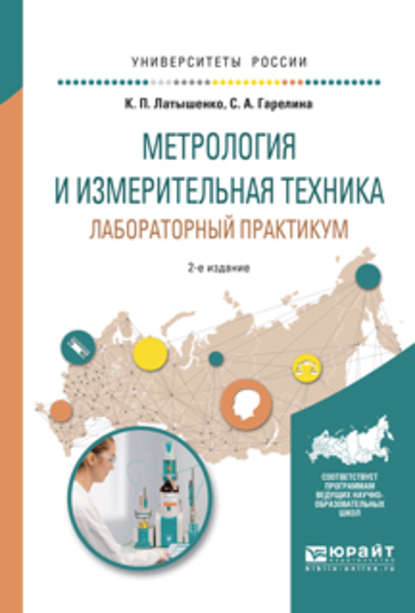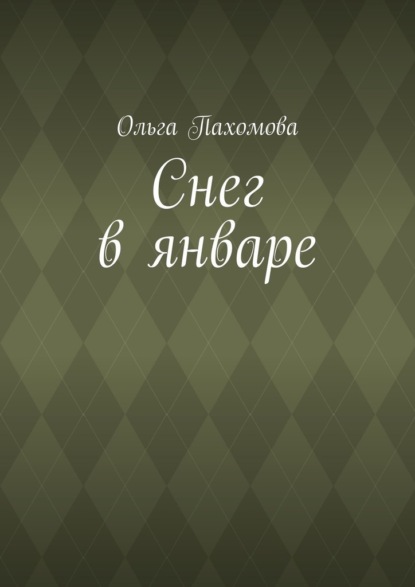В броне по дорогам жизни. Воспоминания офицера-танкиста
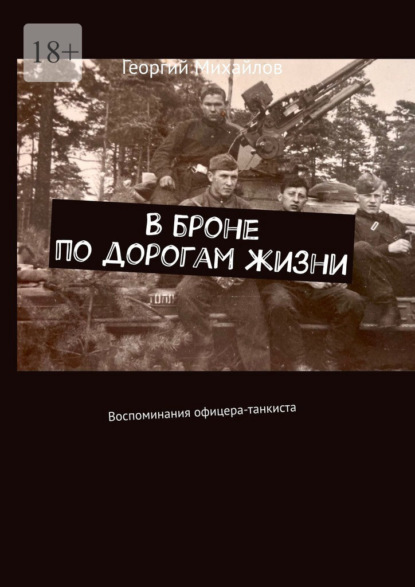
- -
- 100%
- +
Вряд ли у не было полное лингвистическое образование по иностранным языкам. Возможно, она окончила какие-то курсы, но скорее всего она свое обучение прошла, живя с мужем-немцем. А что ей оставалось делать? Жить-то как-то надо.
Но я хочу осветить тут более глубокие морально-психологические аспекты, которые будут касаться и педагогов, и нас – учеников того исторического периода. Лет тридцать назад я еще не задумывался о своем мировоззрении при оценке действий и поведения учеников (включая и свое) касательно изучения немецкого языка, именно в тот после оккупационный период, и к персоне преподавателя этого предмета, а конкретнее – к Зое Игнатьевне. Но с годами, отслужив в Вооруженных Силах страны три десятилетия, в «гражданке» поработав, получив жизненный опыт и возрастную мудрость, понял – какие мы были мелкоподлые ученики по отношению к этой женщине. Арестовали и сослали ее мужа. И как же на это реагировали наши люди? Многие рассуждали – так он же немец, враг нашей страны! Думаю, что такое рассуждение возникло в результате реальных фактов: – нападения Германии (немцев) на нашу страну, оккупация, которую даже дети сами ощутили, пережили, прочувствовали, информация по радио, из печати, разговоры и суждения взрослых, родителей, политических деятелей о врагах народа, предателях и т. д.
К сожалению, сама политика партийно-политических деятелей страны к отдельным не русскоязычным людям, а в данном случае к немцам (немцам Поволжья) была далеко не морально-справедливой.
Но даже в нашей школе в тогдашних пятых классах у некоторых учеников было презрение к немецкому языку. Разве можно его учить? Это же язык врага!
Очевидно, в те времена Зоя Игнатьевна жила очень бедно. Мы все бедствовали, но теперь представляю – на сколько ей было тяжело. В первый же год после оккупационного учебного года в осенне-зимнюю стужу она пришла в школу в красноармейском шлеме. Тут же дали ей прозвище «Шлема». Все! Прозвище закрепилось навечно. А потом еще и стишок поганый сочинили.
«Звенит звонок, и Шлема мчитсяПо коридору прямо в класс.За столик маленький садитсяИ начинает мучить нас:Was ist das? (Вас ист дас?)Кишки выдеру из вас».Позже, когда школа давно была позади, разговаривая с бывшими учениками того периода, я узнал, что некоторые мальчишки поздно вечером ходили к ее дому разбить оконное стекло.
Естественно, при ее положении почти изгоя и при мягком характере она не умела (или не могла?) потребовать, настоять на своем, от этого как педагог она была слишком слаба. Это влияло на качество обучения и на нежелание многих учеников добросовестно готовиться к уроку.
Но события о последующих учебных процессах преподавания немецкого языка в нашей школе и самих преподавателях имеют интересное продолжение, и далеко не обыденное.
В 7-м классе обучать нас немецкому стала другая учительница. Раньше в нашей школе она не работала. Возможно, она стала жить в нашем городе совсем недавно. Это была молодая, интересная, а, оценивая ее умом взрослого мужчины, обаятельная женщина. Уроки вела свободно, доброжелательно, не шаблонно, считаю, что даже с отступлением от канонов общепринятой классической методики преподавания. Один раз принесла на урок патефон и пластинку с какой-то веселой детской песней на немецком языке. Но это не был урок музыки – она обращала наше внимание на произношение слов. Организовала выпуск классной стенгазеты на немецком языке, перед этим выбрали редакцию. Что для меня интересно, так это то, что лично сама меня предложила включить в редакцию. При характерном для меня мелко-хулиганском поведении я отказывался. Но она меня убедила быть в редакции. Как ни странно, я сознательно согласился, более того – с удовольствием активно работал при выпуске газеты.
И что вы думаете?! Она за каких-то два месяца с начала года таких как я – малосознательных к учебе, перевоспитала. Я стал учиться с интересом, более того – мне стал нравиться немецкий язык. Я не могу припомнить, чтобы у кого-то из класса были проблемы по этому предмету.
Но вдруг рок судьбы!
Возможно, учебный процесс уже перевалил на вторую половину года, учительница на урок не пришла.
Органы безопасности знают свое дело. «Наша милая» учительница работала в войну на немцев. Подробности мы – дети, ученики – не знали. До нас дошло, что она сознательно работала на фашистов и, более того, якобы роскошно жила с немецкими офицерами.
Я не знаю, откуда она приехала в наш город. Возможно, заметая следы, она поменяла место жительства. Миловидная, улыбчивая, она смогла влюбить в себя одного из городских партийных деятелей и выйти за него замуж. Надо сказать, что органы внутренних дел в те годы выявили очень много предателей, полицаев и прочих сволочей, служивших у фашистов.
В нашем городе во Дворце культуры проходили открытые судебные процессы над ними. Один процесс над палачами-предателями шел дня два или три. Бабушка ходила на слушания. Возвращалась в каком-то возбужденно-стрессовом состоянии. Возможно, на одном из таких процессов мы узнали о последних минутах жизни расстрелянного дяди Шуры. Когда их везли в открытом кузове грузовой машины на расстрел, уже в заснеженной степи он сказал полицаю, что он (дядя Саша) спрыгнет на ходу и побежит в поле, а ты, стреляя, промахнись. Полицай этот был хорошо знаком нашей семье еще до войны (я уже писал об этом). Предатель, он и есть предатель. Согласие на это он не дал. Об этом уже много лет спустя рассказал мне двоюродный брат Саша – сын тети Ани.
Однако, вернемся к описываемым процессам обучения немецкому языку и преподавательскому составу. Итак, завершала наши познания иностранного в 7-м классе все та же Зоя Игнатьевна. Я же – первый разгильдяй класса, пользуясь отсутствием твердой педагогической принципиальности в характере и действиях Зои Игнатьевны, вновь стал скатываться в сторону «улицы», а не к учебнику.
И вот после летних каникул все мы, повзрослев, входим в 8-й класс. Разнеслась весть – у нас будет новая учительница. В войну была в действующей воинской части, служила переводчиком.
Звонок на урок. Все в классе. Ждем. Второй звонок. Дверь открывается, и входит наша новая учительница. Средних лет, подтянутая и заметно энергичнее, чем все наши гражданские местные женщины-учителя.
– Guten Tag! (Добрый день!)
Мы не ахти дружно отвечаем. Она продолжает:
– Wer ist heute Ordner? (Кто сегодня дежурный?)
От нас – молчание.
Я сидел за второй партой первого левого ряда с одним парнем – Сашкой Савичевым. В те времена он еще не вышел из детско-юношеского возраста и был доброжелательным дурносмехом по любому поводу, каких поискать!..
И вот, когда был задан вопрос на немецком «Кто сегодня дежурный, я при своем ретивом характере и пока еще слабом знании языка, моментально ляпнул:
– А это чо?!
Мой дурносмех громко хохотнул. Да!.. После армии попасть в наш класс – 8 Б (бешеный) и быть так встреченной, это, очевидно, для бывшего военного переводчика было сверхдозволенным в общепринятой этике субординации. Учительница подошла к своему столу, слегка покраснела. Чувствуется, что она не ожидала такого начала. Но все как-то поспешно улеглось. Мы сели за парты. По журналу и воочию начала с нами знакомиться. Ее звали Анна Ефимовна Кошарная.
Надо сказать, что энергично, по-военному она повела нас к познанию немецкого языка. Но меня она приметила… Да и сам я иногда, одним-другим словом, сказанным между прочим, подпитывал ее, на свою голову, появившимся у нее негативным отношением ко мне. Настанет время и это приведет к вполне нехорошим последствиям для меня. Ранее я писал о сговоре. Позже подойдут события, и я опишу все более подробно.
Заговорив о своем юношеском поведении, теперь уже в зрелом возрасте, все проанализировав, я нашел несколько положительную сторону своих действий в становлении окончательного характера. С возрастом многие черты, склонности стали изменяться в положительную сторону. Ретивость, мелкое хулиганство – в сторону смелости, быстроту принятия решения. Тут же – оптимистичность, быть неунывающим и в то же время в необходимый момент быть собранным и серьезным. Все, без которых военный человек не будет полноценным офицером, а этим все сказано.
Вспоминая все прошлое, можно сказать, что в школе по полной мерке разгильдяйства я не достиг. Уроки в конце концов я не запускал, по требованию родителей всякую работу по дому выполнял. Да, любил в классе показать себя героем, умел уйти с урока, на принесенный к уроку макет человеческого скелета надеть набекрень кепку, а в зубную челюсть всунуть папироску «Беломора». Меня, как никого, иногда выпроваживали с урока. О последнем мог бы и не писать, но один случай оказался для меня судьбоносным. В 6-м классе меня выпроводили. Причем я даже не ожидал, что так получится. Стою в коридоре один, а все в классах. Скажу честно: стало стыдно и грустно. Еле дождался звонка об окончании урока. Рядом с нашим классом открывается дверь параллельного 6-го класса и, держась за внутреннюю ручку двери, поджав ноги в шароварчиках, из класса «выплывает» за двери девочка с маленькими косичками, торчащими по обе стороны головы несколько в бок.
«О! В моем духе! Наш человек», – подумал я. Она меня так насмешила таким выходом из класса, к тому же первой.
А когда после 7-го класса часть учеников ушла из школы, поступив в техникумы (тогда многие после «семилетки» поступали в техникумы), а 8-е классы реорганизовали, объединили, я увидел, что попал в класс, где и та девочка. А она уже девушка – волосы потемнели, волнистые, и нет уже подростковой угловатости и простых шароварчиков на ногах. Она сидела за последней партой в среднем ряду, а я по этому же ряду за третьей партой. Ну что, друзья, я иногда «нечаянно» оглядывался назад… на Нину Дубченко – свою будущую жену.
Быть хулиганистым и не написать про драки?! Да какой же я тогда хулиган? Но сначала вновь несколько вернусь к путям становления нашего города. Я уже писал, что возник он на местах угольных рудников. Добыча угля была на первом месте, а развитие культурной деятельности шло последовательно. Был построен прекрасный, современный для того времени Дворец культуры. Создали замечательный парк. В парке был летний кинотеатр, танцплощадка. Кстати, сейчас в нашем капиталистическом 21-м веке он (парк) в потрясающем запустении. В те довоенные времена городские, партийные власти многое сделали для культурного развития города. Но годы войны, оккупация – это развитие практически остановили, и периоды эпохи стали заполняться темными делами. После войны появились разные банды, воры, карманники и т. д.
Мы, молодая поросль, росли при этих обстоятельствах. Некоторые ребята пошли по легкому, лживому пути – воровать, поживиться чужим. Недалеко от дома Дубченко на одной из улиц жили две-три простых семьи – взрослые малообразованные люди. По-моему, они сами не стремились к прогрессу. В одной из этих семей был сын. Как его звали я не знаю. В основном звали его по кличке «Жуля» (Возможно, от слова «Жулик»). Учился ли он где – тоже не знаю. Он был года на 3—4 старше меня. Уже только от одного его прозвища мне становилось страшно. Говорят, что из «поджигняка» он случайно убил маленького мальчика.
Поджигняк – самодельное деревянное устройство со стальной трубочкой, в виде пистолета. В трубочку набивался или порох (в войну можно было найти боевой винтовочный патрон), или сера от спичек. Затем в ствол клали шарик от маленького подшипника. В трубочке была маленькая дырочка, к которой прикладывалась серной головкой спичка. Устройство наводилось на цель, мишень и т.д., коробкой спичечной чиркалось о закрепленную спичку – производился выстрел. Вот такое устройство было у Жули.
Этот Жуля меня при встрече обыскивал и грабил. Даст мама в воскресенье 25 копеек на дневной сеанс сходить в кино, Жуля встретит и отберет. Он считал меня сыном прокурора. Помните, я писал, что соседями у бабушки была семья прокурора. Так вот, многие мальчишки из бедных семей так и думали. Грабить меня начали где-то класса с третьего. Молчал я об этом и терпел. Но конец придет, и будет великолепный…
Был еще один парень, примерно моих же лет. Семья его жила в казарменном доме, и он тоже просто задирал меня, пинал, считая, что я из привилегированной прокурорской семьи. Я же просто отмахивался от него. Вообще-то, хотя я и был хулиганистый, но задирать, кого-то унижать, бить, дразнить – этого никогда не делал. Скажу, что в классе на меня никто никогда не обижался, потому что я со всеми вел себя весело и непринужденно.
Как-то под вечер на почти безлюдном перекрестке я встретился с мальчишкой и его двумя друзьями из казармы. «Попинались» как всегда. И вдруг один из его друзей, а он был несколько старше нас, говорит: «Я предлагаю вам „на-любя“ подраться». Спрашивает у меня: «Ты согласен?». Отвечаю: «Согласен». Моему задире ничего не оставалось, как тоже согласиться. Старший-инициатор говорит: «Тогда вот условия: драться до первой крови, лежачего не бить».
По его команде мы начали…
Дети войны! Ручонки худые, кулачками пошли друг друга лупить! «Судьи» наблюдают. Сначала шло все на равных. Но вот я удачно вмазал ему в лицо. «Бой» идет. От другого удара он присел на одно колено, а из носа показалась кровь. «Рефери» остановил «бой». Мы стоим друг против друга. Старший говорит: «Мы уходим на совещание» и со своим вторым напарником отошли в сторону. Мы ждем. Судьи подходят, старший говорит: «Мы считаем – больше не драться, вам помириться и пожать друг другу руки. Согласны?»
«Да», – ответили мы оба. Так и сделали. Больше с этим парнем у нас никаких стычек не было.
Но меня всю жизнь удивляет и восхищает решение и действия того старшего мальчика, предложившего нам так разрешить наши взаимоотношения и раз и навсегда покончить с недружелюбием. Это произошло в период летних каникул после 4-го класса. Мне было одиннадцать лет, а мальчику—судье, возможно, не больше четырнадцати. А как он серьезно, разумно и справедливо все это организовал и провел… Посмотрите, что делается сейчас в наше цивилизованное время расцвета демократии?! Бьют ногами лежачего человека по голове. На трассах бьют бейсбольными битами, стреляют в упор… А что вы хотите, если сам Президент одобрил боевое САМБО, внесенное в мировые спортивные бои?
Однако пора и на Жуле точку поставить.
Грабил он меня года четыре, до летних каникул после окончания 7-го класса. К этому времени я уже вышел из детского возраста. Занимался зарядкой, подтягивался несколько раз на ветви «своего» дерева, отжимался. Одним словом – взрослел.
В один из дней иду по проспекту Ленина к своему школьному другу Жеке Пристинскому. Слышу, кто-то меня сзади окликает. Оборачиваюсь – «Жуля». Он ускоряет шаг, приближаясь ко мне, с ним еще трое мальчишек. Идет такой блатной развязной походкой, одна рука в кармане брюк, надменно улыбается. Вид такой, что явно хочет надо мной покуражиться. Стою, жду его. Тут надо сказать, что в этот день с утра у меня было какое-то «лихое» настроение, какая-то приподнятость. Не помню, что он начал говорить, но явно хотел в моих карманах похозяйничать. Я руками его оттолкнул. Он понял, что в мои карманы ему не залезть и тогда неожиданно крепко обхватил руками мои плечи в верхней части рук, сжал и начал пригибать меня к земле. Прижимая меня руками, его голова упиралась мне в верхнюю часть груди лицом вниз.
«Пацаны, бейте его!» – закричал Жуля. Прижатый почти к земле, я увидел перед собой продолговатый камень. Правая рука моя по локоть имела возможность двигаться. Схватил камень в кулак и каким-то образом просунулся этой частью руки вверх и ткнул торчащей частью камня в лицо Жули. От боли он разжал руки. Я быстро встал, выпрямился, а в метре от меня, рядом, два подбегающих парня. Да, встал я вовремя! Мгновенно кулаками обеих рук, что было сил, одновременно встречно каждому – «в морду». Это вмиг остепенило подбегающих парней. Четвертый мальчишка был самый младший, он предпочитал остаться только зрителем этой «красивой» уличной сценки. А я уже в лихом ударе. Во мне азарт! Подхожу к Жуле, хватаю его, поднимаю, хотя он выше меня, подношу (он и не сопротивляется) к невысокому штакетнику, которым по всему проспекту огораживались цветы и молодые деревья платанов, посажанные между проезжей частью и тротуаром, и перебрасываю его через штакетник – полежи там, отдохни, цветочки понюхай. Проходящие мимо три женщины закричали на меня: «Хулиган! Ты что делаешь?! Мальчиков бьешь!»
Во! Я уже стал хулиганом не только в школе, а уже и в пределах города. Ликуя, я разворачиваюсь и продолжаю путь к Жеке. Их дом уже буквально рядом, в двухстах метрах от места драки, чуть в глубине примыкающего перекрестка. Жека во дворе своего дома.
– Привет! – кричу ему.
– Привет! – отвечает.
– Жека, а я только сейчас с Жулей дрался.
Рассказал ему. С Жулей же с этого дня все было покончено. Остались воспоминания.
Кстати, судьба его печальная. Как он был «никем», так до смерти и остался. В 70-х годах начавшийся выпуск автомобилей ВАЗ и их массовая продажа позволили гражданам страны их приобретать. В отличие от автомобилей «Москвич» ВАЗовские машины более быстроходные. К сожалению, культура эксплуатации и езды на этих машинах у многих неопытных водителей была невысокой. Жуля с двумя такими же непутевыми «уже» мужиками, пьяные, погибли в созданном ими же дорожном происшествии.
И еще небольшое интересное дополнение. Один из получивших удар при завершении драки в будущем будет мне шурином – брат моей жены – Александр, предпоследний сын из десяти детей семьи Дубченко. По аналогии с судьбой Жули и у Александра будущее… (лучше бы и не упоминать об этом, но хроника жизни обязывает меня поведать об этом позднее).
Заканчивая тему пацанячих драк, скажу, что за период моей юношеской жизни были еще три стычки. Одна из них могла быть более неудачной, но судьба мне покровительствовала. Носа мне не разбивали, серьезных травм не получал. И те две, предоставленные вам, были самые лучшие и «интересные».
Восьмой класс. Мы взрослеем. В школах, в городе открываются для детей различные кружки. Девчонки ходят в хореографические, танцевальные. Мы с Жекой записались в рисовальный. И у него, и у меня давно проявлялась склонность рисовать. Оба любили пейзажи, т.к. любили природу, и летом на ночь за 18—20 километров с удочками уходили на речку Кундрючья половить рыбку.
Город наш стал быстро развиваться и расцветать. В магазинах канцтоваров уже можно было купить альбом для рисования, хорошие акварельные медовые краски и т. д. В стране наладился выпуск различных книг, и книжные магазины часто пополнялись их новыми художественными изданиями. Люди истосковались за войну по книгам. Покупали их и читали «от мала до велика». Мама наша была большим любителем читать книги – романы, стихи. Сама немного сочиняла. Одно стихотворение даже в местную газету «Знамя шахтера» как-то поместили. Даже бабуля в перерывах работы в артели «Швейник», домашних забот запоем читала книгу нашего земляка М. Шолохова «Тихий Дон».
Мы, школьники, кто успел, раскупили появившуюся в продаже книгу «Молодая гвардия». Купил и я. Эта книга, как уникальная среди других «дорогих» мне книг, была привезена в город Горький как память о тех далеких годах юности и жизни в Новошахтинске. «Молодую гвардию» все школьники старших классов перечитали. Восторгались ребятами-подпольщиками. Для многих из нас Сергей Тюленин остался самым лучшим для подражания Героем. Вскоре и фильм одноименного названия вышел. Естественно, всем классом ходили смотреть.
В школах иногда стали устраивать вечера, танцы, а изредка и «свои» классные танцы. Как-то и наш класс организовал. Парты все сдвинули к тыльной стороне класса, поставив их одну на другую. Уже тогда появились первые магнитофоны. Я где-то смелый, а тут вдруг заробел – танцевать-то толком не умел. Какой там мне вальс? Залез за одну из парт и только наблюдаю. Танцевать хотелось, но стеснялся. И вдруг подходит ко мне Нина и говорит: «Гоша, пошли танцевать». Сами понимаете – девчонка, на которую на уроке нет-нет, да и оборачиваясь как бы невзначай, поглядывал, сама меня приглашает танцевать. Для меня это уже было маленьким счастьем. Ноги заплетаются – какое там танго?! В фокстрот я кое-как «вписался». В душе был очень благодарен Нине за ее приглашение. Это, конечно, подкрепило во мне первые юношеские чувства к ней.
Вот что еще хочется добавить при описании школьных вечеров. О том, чтобы кто-то из ребят приходил на эти вечера выпившим или во время этих культурных мероприятий распивал вино, водку – этого никогда не было. Некоторые ребята курили, но таких в классе было один-два. Да и мы с Жекой, подражая взрослым или старшим ребятам, иногда покупали сигареты («Астра» – в ходу были такие сигареты) и вдали от дома, летом на рыбалке покуривали. В те далекие более «честные» времена наши девчонки в отличие от современных «продвинутых» не курили и с бутылкой пива по улице не ходили.
Мальчишки могли на какой-нибудь праздник втихую выпить, и в своей компании для бравады выбросить матерное слово. При девчонках такого никогда не было. Кстати, вот как мой младший брат Владимир доносил на меня маме:
«Мама, а Жорка опять ругается, что у бабушки в огороде за кухней растет.» (Рос там хрен).
В нашем учебном процессе старшеклассников постепенно произошли перемены на более осмысленное стремление к обучению. Потому что мы, горожане, уже не голодали, как в прошедшие 40-е годы. Продовольственные карточки давно ушли «в прошлое». В магазинах теперь уже навсегда появились все виды основных продовольственных продуктов: сахар, сыры, колбасы. В нескольких километрах от города, на наших черноземных полях, созданный совхоз №6 снабжал город многими овощными культурами. Не все, конечно, по работе имели еще хорошую заработную плату. Поэтому люди покупали все разумно и экономно. Наш отец, как инженер, работал на шахте, получал неплохую зарплату, но «Московскую» колбасу, хороший сыр и маленькую баночку черной икры, шампанское мама покупала только к Новому году. А то что наш город в отличие от крупных городов создавался изначально с небольшими земельными участками при домах это способствовало развитию своего маленького хозяйства. У моей будущей родни – Дубенко- при их многодетной семье всегда были корова и куры.
Поэтому мы – школьники, уже не испытывали на уроках чувство голода. Головы наши стали соображать лучше.
Тут как раз есть возможность вставить повествование о своеобразной корове семьи Дубченко. Уж очень меня просила написать об этом моя младшая дочка Ира.
Как-то мы с Ниной, уже давно проживая в Нижнем Новгороде, заговорили о Новошахтинске. По ходу разговора я ей говорю: «Да какой там город?! Коровы в центре у кинотеатра с уличных деревьев листья едят!» Рассказал ей, как шел однажды по проспекту, смотрю, на примыкающей улице у кинотеатра «Шахтер» какая-то корова ест листья с акации – деревьев, посаженных вдоль тротуара. Нина стала смеяться и говорит: «Это наша корова». Вот как было дело. Она с отцом, Григорием Абрамовичем, решили пойти на вечерний сеанс в кино. Мария Кондратьевна, супруга Григория, говорит: «Сходите за коровой (из стада), приведете домой и идите в кино». В нужное время Нина с отцом прошли к месту прогона стада пастухом, встретили свою Зорьку и пошли к своему дому. Привели к забору, калитке двора. «Маруся, – кричит отец. – Возьми корову, мы пошли».
Маруся чуть замешкалась, а возможно, находясь в доме или в летней кухне, не услышала. Одним словом – корову не приняла. Зорька постояла немного и пошла назад за Григорием. Те пошли быстро, не оглядываясь. Надо было еще билеты купить.
После сеанса выходят из кинотеатра и видят, как какая-то корова стоит и поедает листья акации. В отличии от всех коров их Зорька была заметно меньшего размера. Григорий Абрамович присмотрелся и говорит: «Нина, так это наша Зорька!» Дождались, когда почти все зрители вышли из кинозала и разошлись, стыдливо оглядываясь, смежной второстепенной улицей, переулками повели Зорьку домой. А Маруся дома места себе не находит – коровы нет. Зорька эта кстати, не раз прыгала через забор, но в этот раз, когда ее пригнали первый раз, не захотела воспользоваться своими способностями, а может тяжеловато ей было, недоенной.
1.4. Старшие классы – осмысление учебы. Невзгоды – уход отца, болезни. Отъезд в Саратов
Однако вернемся к моему размышлению об осмысленном стремлении к обучению. С 16 лет стали уже серьезнее задумываться о выборе профессии. Моя же направленность оставалась неизменной. Если верить, что душа переходит в нового зарожденного человека, то в какие-то дальние времена моя душа, наверное, принадлежала воину. «Забегу» несколько вперед – в 10-й класс. Военное дело нам, ребятам, преподавал офицер запаса, майор, артиллерист Щербаков. Участник Великой Отечественной войны. Как-то на урок он принес военную топографическую карту. Майор ознакомил нас – учеников- с картой, условной боевой обстановкой и стал расспрашивать: