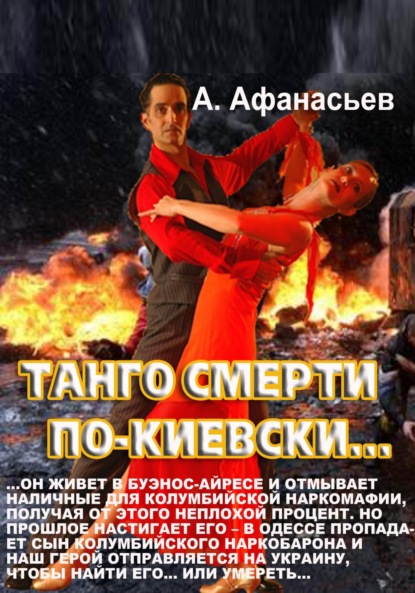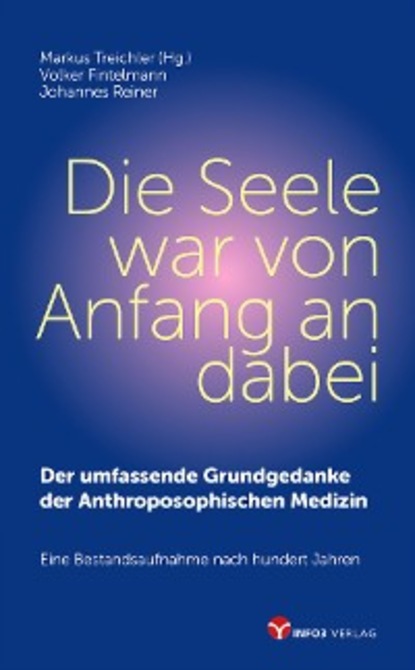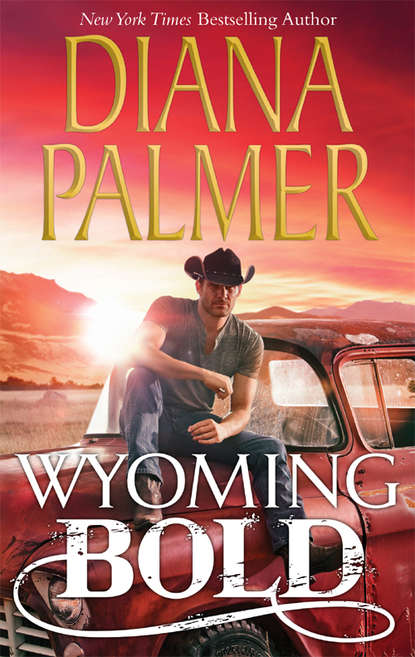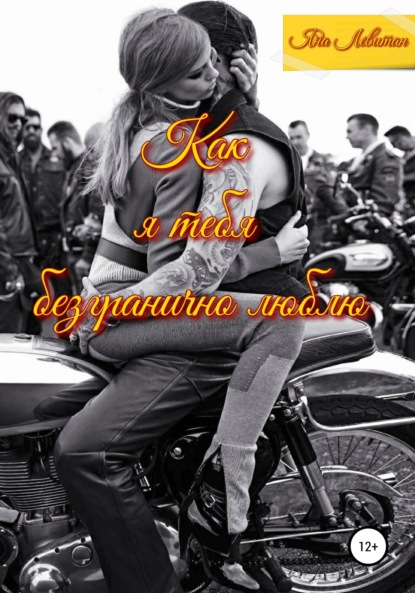В броне по дорогам жизни. Воспоминания офицера-танкиста
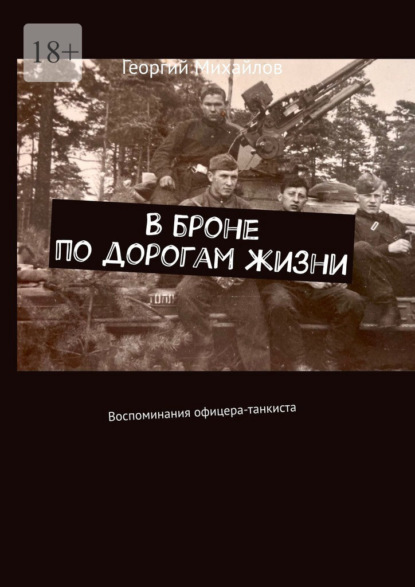
- -
- 100%
- +
2.1. Приезд в Саратов. Поступление в училище.
Ранним утром, навстречу солнцу с востока, поезд подъехал к перрону Саратовского вокзала.
Саратов! Какой ты – город на Волге?
Сдав в камеру хранения полупустой, довоенных времен, чемодан, решил – до начала жизнеутверждающего для меня дня с приходом в училище ознакомиться с городом.
Вышел из здания вокзала. Рань такая, что на примыкающих к вокзальной площади улицах ни людей, ни городского транспорта, не считая одиночек, только приехавших при вокзале. Соображая, что переходящая непосредственно в привокзальную площадь улица – главная, пошел по ней. С интересом смотрел на здания. Одно, особенное, запомнилось – по архитектуре немецкого старинного стиля. Вот улица пошла как бы в низинку, и вскоре открылась панорама реки Волги. Пройдя еще десятки метров переулками, вышел к берегу.
Простор! В душе была какая-то радость. Невольно вспомнилось Некрасовское:
«О, Волга!.. Колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я?»
В те времена городская часть берега еще не была обустроена набережной, и я прошел к самой ее кромке. Чистая вода тихо и «ласково» подкатывалась к моей обуви и, откатываясь, как-то по-своему, по речному тихо журчала, вздыхала.
Я смотрел и смотрел на речной простор. Вот она, Волга! Я вижу знаменитую реку! Ведь о ней столько написано, и упоминается в стихах, песнях, истории. Разве думал я, что вот так неожиданно, приехав из нашего шахтерского Новошахтинска, буду стоять на берегу воспетой Волги уже в первый же день приезда?
Однако пора и в обратный путь – на вокзал за вещами. День-то разгорается. Взял чемодан и, пройдя перекрестком прилегающих улиц, стал спрашивать горожан – как и на чем доехать до танкового училища? Некто мне сказал, что в то направление ходит трамвай, но не до конца, и до училища придется дойти пешком. Назвали номер трамвая и где находится его остановка. (Примечание автора: пройдет чуть больше года, и мы, курсанты второго курса, будем активно помогать городу прокладывать трамвайные пути до училища и несколько дальше.)
Прошел до указанной мне улицы, к остановке, жду «своего» трамвая.
В ту окраинную тупиковую часть города, возможно, трамваи ходили не часто, и мое ожидание затягивалось. Подходит трамвай с номером на одно число больше, и я, никогда не проживавший в городе с таким транспортом, подумал – номер трамвая смежный, идет по этим же рельсам, значит, пойдет почти туда, куда и мне нужно. Сел… Поехали. Но вот в одном месте на стрелке трамвай делает поворот налево, возможно нужный мне путь просматривается в продолжающем прямом направлении, спускаясь в низину. Мы же движемся поверху видимого справа склону. Не мешкая, вновь стал спрашивать пассажиров как попасть в училище. Сказали (то, что я уже знал), что Вы, мол, сели не на тот трамвай, и теперь сейчас на остановке выходите и прямо от трамвая по тропинке спускайтесь в низину, там городское кладбище. Проходите через него, поднимайтесь наверх – там как раз и будут первые строения территории танкового училища.
Все это я мог не описывать. Но я написал, а почему? Сейчас узнаете.
В школе к предмету «Литература» я с упоением не относился, но все же был какой-то интерес. Помимо классных учебных требований я самостоятельно читал о прогрессивных демократах, критиках 19-го века Чернышевском, Белинском. Спускаясь по тропинке к кладбищу, вспомнил, что в Саратове похоронен Чернышевский. Подумал: «Может, могилу Чернышевского увижу? Нет, специально по кладбищу ходить, искать могилу не буду. Вон уже сколько времени, а я все шляюсь с чемоданом.» Каково же было мое нескрываемое удивление, когда, идя уже по низине кладбища, неожиданно справа от тропинки увидел в простенькой ограде скромный, несколько больше средних размеров памятник с хронологическими датами рождения и смерти Чернышевского. Вот это да! Ну, что, Кагодовская, знала ли ты, что Чернышевский похоронен в Саратове? А я, твой «троешник» знал, вспомнил и увидел его могилу. Настроение у меня поднялось, и я махом прошел подъемную территорию от этой широкой низины. Еще несколько метров, и выше к углу высокого ограждения. Вот и первая проходная, нет – правильно «КПП» (контрольно-пропускной пункт).
– Нет, Вам не сюда, это танковое техническое училище. Вам дальше – там второе танковое училище.
Прошел еще несколько десятков метров. Проверка документов и я… на территории СТУ (Саратовское танковое училище).
Прибывающих ребят, таких же, как я – иногородних, разместили в спортзале на первом этаже в одной из казарм. Здание трехэтажное, кирпичное, в одном ряду с двумя другими такими же зданиями. Все они – курсантские казармы для проживания; читальный зал – библиотека в одном из них.
«Разместили» – вот именно. Слово точно характеризует почти отсутствие какого бы то ни было комфорта. На полу всего помещения спортзала, кроме коридорной части, между стенкой с окнами зала и тремя колоннами, были разложены матрацы темно-серого цвета с такими же подушками без простыней, наволочек и одеял. И подушки, и матрацы, очевидно, не первый год предназначались для поступающих в училище, как единственная незамысловатая спартанская постельная принадлежность. Сейчас не вспомнить – были ли они наполнены соломой или каким-нибудь ватином? Потому что, забегая вперед по событиям времени, на первом курсе мы спали «на соломе». Мое «ложе» располагалось почти в центральной части зала, головой к средней колонне. Вещи свои по указанию какого-то старшины мы сдали в комнату хранения в тыльной части этого же здания, оставив себе только предметы туалета. До самого окончания училища своих вещей-чемоданов больше не видели. Выход в город был запрещен. В этом спортзале мы должны были жить и готовиться к экзаменам. Завтрак, обед и ужин – по училищному распорядку в солдатской столовой. Передвижение туда и обратно строем под командованием назначенного для нас старшины.
Спали мы, почти не раздеваясь, в зависимости от температуры воздуха. Да и одежда у всех была простая – в основном хлопчатобумажные брюки, рубашки, пиджаки. По качеству и материалу для того периода в стране у всех почти одно и то же.
Вскоре и экзамены начали сдавать. Экзаменов было немного, по основным предметам. А я стал заболевать. Дело в том, что окна спортзала почти все время были открыты. Сквозняк гуляет, особенно по низу, а мы спим на полу. Чувствую – озноб легкий пошел и как бы температура понемногу стала подниматься. Вскоре на правой ягодице округлая болезненная плотности внутренней мышечной ткани стала появляться и с каждым днем увеличиваться. В жизни никогда не было фурункулов, а тут вдруг образовался и стал разрастаться. Кто-то из ребят посоветовал сходить в санчасть училища. Нашел санчасть, нужный кабинет. Постучал в дверь. С разрешения вхожу – очень полная, не молодая женщина в халате что-то ест. «Что у Вас?» -спрашивает с набитым ртом. В те времена, по молодости, я был очень стеснительный. Сказать ей в тот момент, когда она что-то ела, что у меня на «заднем» месте чиряк, да еще, наверное, пришлось бы показать – извините, моя совесть этого не позволила. Я сказал: «Голова что-то болит сильно». Она дала таблетку, и я пошел в свою казарму.
Последний экзамен по физике сдавал как в бреду. Что и как отвечал – ничего не вспомнить. Но помню, что на все вопросы я отвечал, хотя наверняка еле языком ворочал. После экзамена пришел в «наш» спортзал, лег и до утра следующего дня не встал. На обед не ходил, не пошел и на ужин. Лежал почти в бессознательном состоянии. Кто-то из ребят принес мне с ужина кусочек ржаного хлеба и «квадратик» пиленого сахара. Как-то съел, с трудом все осмысливал.
Днями раньше познакомился с одним парнем – Куликовым Иваном. Земляк, также из Ростовской области. Возможно, это он принес мне из столовой тот кусочек хлеба с сахаром. Вскоре мы подружились.
Проспав беспробудно более ночи, к утру я ожил. Очевидно, пик болезни миновал. Моему фурункулу требовалось некоторое хирургическое вмешательство, но у меня и мысли не было вновь идти в санчасть. Дождавшись начала вечера пошли с Иваном к тыльной части территории училища, к летнему туалету. Иван пошел со мной для моральной поддержки. Решил, как бы больно ни было, выдавить из назревшего фурункула всю гнойную дрянь. Да, читатель, возможно, читать вам все это будет неприятно. Но я хотел, чтобы вы представили – в каких условиях мне приходилось приводить себя в работоспособную норму безо всяких лекарств. Вспомните, уже не в первой я себя «лечу». На этот раз из медицинских принадлежностей у меня был только носовой платок. После десятиминутной «операции» он навечно канул в туалете. Представьте себе, после этих неимоверных выдавливаний всей дряни дело пошло на поправку. Медленно, но с каждым днем заметнее состояние мое улучшалось.
Дня через два или на второй день после экзаменов всем нам «спортсменам из спортзала» выдали чистую, но бывшую в употреблении курсантскую (солдатскую) форму – гимнастерки с погонами, брюки, кирзовые сапоги, ремни, сводили в училищную баню. Переселили в обычное казарменное помещение, где были кровати с обычным бельем для сна, в том числе и солдатские одеяла, полотенце. При кроватях – тумбочка на каждого и табурет. Матрасы и подушки по-прежнему были набиты соломой. Наши ребята сами же и набивали их. А делалось это так: старшина отобрал человек десять ребят, забрал пустые матрасы, наволочки, и на грузовой машине поехали в поле к скирдам соломы. Там же для всех набили и привезли. Мы еще не были приняты в училище, и приказа о зачислении не объявляли, но всех для организованности предварительно распределили на две роты, а в ротах – по взводам. Мы с Иваном были определены в первую роту, в третий взвод. Старшим над всей ротой назначили старшину Сафронова. Он уже отслужил действительную военную службу и, как все мы, поступал в военное училище. В тексте я еще не раз о нем упомяну. Этот персонаж заслуживал, чтобы его упоминали как мелко-сволочного негодяя характерного, верным традициям дедовщины.
С этого дня основная наша задача заключалась в выполнении различных работ на территории училища. Мы чистили колодцы подземных коммуникаций, убирали территорию, помогали механикам-водителям обслуживать танки. Лично я с нетерпением ждал, когда же наш взвод пошлют в парк гусеничных машин на это обслуживание. А то нам доставалось чистить только коммуникационные колодцы. Работать в них приходилось в полусогнутом состоянии. В конце концов этой работой было подтверждено, что ежедневный завтрак однообразной пищей не всегда благоприятен для человеческого пищеварения. Питались мы по-прежнему в солдатской столовой, а так как в это период в связи с приездом для поступления людей было очень много, кормили весьма примитивной пищей. На всю жизнь запомнилась каждодневная на завтрак пшенная каша на воде.
Наконец-то в одно утро наш взвод направили на обслуживание танков. Мне досталась «тридцатьчетверка» (танк Т-34-85). Работа не сложная, не тяжелая – во всем помочь механику-водителю. Это был старшина сверхсрочной службы, уже в возрасте, возможно, фронтовик. Мужчина по характеру спокойный и, наверное, добрый. Находясь снаружи танка, я спросил у него разрешения влезть на место водителя. Он разрешил, и я полез в его люк головой вперед и… застрял. Спасибо ему – он не обсмеял меня, не сказал ничего иронического, а по-дружески объяснил – в этот люк водитель влезает сразу на свое сидение ногами, разворачиваясь всем телом лицом вперед. Через полтора-два года, к третьему курсу, мы поднакаченные физически, подходя к «Тридцатьчетверке», подпрыгивая и опираясь руками за наружное оборудование носовой части корпуса танка, разворачиваясь в воздухе, ногами влетали в проем люка механика-водителя. Это потом, а пока еще в училище не зачислили, нас даже салагами нельзя было назвать.
В один из этих ней все мы при училище в санчасти прошли медкомиссию со сдачей всех положенных анализов, флюорографии, со всякими измерениями, проверками «становой силы» и т. д. И, хотя опять на запястьях моей левой руки проявились багровые пятна, я комиссию прошел безо всяких последующих рекомендаций. Ну и слава Богу!
Переодетые в курсантскую форму, мы уже во всю работали, когда в училище приехало много новых ребят. Это были не прошедшие по конкурсу при сдаче экзаменов в гражданские высшие учебные заведения. Возможно, только некоторые из них также были приняты в училище, хотя все они сдавали экзамены лучше многих из нас. Много лет спустя я думал о принципах командования военного училища к зачислению на учебу в военное заведение. И вот мое мнение: командование считало, что в училище надо принимать ребят, которые сознательно сами решили связать свою жизнь с армией и выбирали конкретное направление не просто быть военным офицером, а именно танкистом. А «студенты»? Не поступил в гражданский ВУЗ – пойду в военное училище.
По этому поводу мне вспоминается история… Еще, по-моему, после девятого класса летом я шел по городу мимо здания военкомата и увидел у входа офицера, старшего лейтенанта, да еще танкиста. Тогда на петлицах эмблемы танков были довоенной конфигурации сороковых годов. Я обомлел – танкист! Сворачиваю с тротуара и иду к офицеру. Поздоровался и, борясь с робостью и с желанием с ним поговорить, сказал, что после школы хочу поступить в танковое училище. Мол, как там, в армии… и вообще…? Офицер меня понял и кратко, но доходчиво сказал, что служба не легкая, даже тяжелая. Но если я серьезно на это настроен и если ты романтик и способен все переносить, то поступай.
Этот разговор с танкистом стал для меня хотя и не зримой, но путеводной звездой, моей жизненной дорожкой. Да, я – романтик! Да, я лихой! Да, мне все нипочем! И вообще – «танки, вперед»!
В один из «трудовых» дней я единственный от роты был назначен в солдатскую столовую в помощь наряду солдатам срочной службы мыть посуду. К вечеру перед ужином пришел кто-то из наших ребят и сказал мне, что объявили приказ о зачислении нас в училище и что мы переселяемся теперь уже окончательно в новое помещение. Я все же до конца отработал с солдатами и поздно вечером пришел в свою роту.
2.2. Первый курс
Итак, я курсант 1-го курса Саратовского такового училища. Командир нашего взвода старший лейтенант Зубенко. Командир роты – капитан Филиппов. Командир батальона – Герой Советского Союза подполковник Кобяков. Младший командный состав (сержантский) был назначен из наших же ребят. Это командиры отделений Геннадий Шипов и Валентин Иощенко. Как потом стало известно, отцы их еще служили в Вооруженных Силах и были в званиях старшего офицерского состава. У Шипова, к примеру, отец был полковником.
Занятия и армейская служба начались сразу. Подъем в шесть часов, физзарядка, утренний осмотр, завтрак, на занятия в учебный корпус бегом. Понятно стало всем сразу – это не пансионат для хорошеньких мальчиков. В одно из воскресений первого учебного месяца – кросс на 3 километра. Зачет – по прибежавшему на финиш последнему курсанту.
Не все ребята, приехавшие поступать в училище, были физически подготовленные. Последнего в нашей роте к финишу тащили за ремень. К концу года почти все физически подравнялись.
У меня еще отдавалась боль в правой ягодице при резких движениях и наклонах тела. Я еще хочу напомнить читателю, что с легкими у меня в зимний период 1953—1954 годов не все было в порядке. В моих будущих описаниях вы узнаете, какой, оказывается, болезни я тогда подвергался, но так как я сам тогда этого не знал, давайте подождем до 2019 года. А сейчас я в полной радости: курсант танкового училища. Молодость, оптимизм, перемена климата, новая обстановка – все заживляюще действовало на мой организм. Я еще этого не успел ни понять, ни осмыслить. Все шло «автоматом» – с утра подъем, зарядка, обмывание по пояс холодной водой. Общая физическая нагрузка, морально – психологическое удовлетворение сыграли для меня громадную роль в выздоровлении. Мне весело и радостно!
– Курсант Михайлов! Вы опять улыбаетесь на строевых занятиях?! – делает мне замечание командир взвода Зубенко, проводивший с нами занятие.
– Дайте карабин, – потребовал он.
(Примечание автора: на занятии проводилась отработка ружейных приемов с боевыми карабинами. Штык примкнут).
Я протянул ему свой карабин. Он что-то говорит, держа карабин вертикально, а через несколько секунд со словом: «Держи!» неожиданно толчком кидает карабин мне. Я потом понял: он проверял – не «ловлю ли я ворон». Нашел кого проверять! Мгновенно перехватил карабин правой рукой и со «звяком» приставил его к правой ноге. Взводный ничего не сказал, но в его взгляде я уловил удовлетворение.
Учебный процесс не был построен на изучении трудных предметов. В основном все было построено на изучении военных дисциплин, на основе которых в Вооруженных Силах СССР была налажена армейская жизнь, служба и неизменный ее столп – мощь и оборона рубежей Родины.
При описании обучения я не буду посвящать подробно читателя в учебные процессы. Это было бы для всех нудно. Хочется показать нашу жизнь в оптимистическом жанре, все преодолевающим, с некоторыми сюрпризами.
В первые месяцы учебы еще сказывалась наша неподготовленность изучать предметы военно-технической направленности по причине недостаточного кругозора. Школьные предметы и еще юные годы не дали нам в этом определенного опыта. На первом курсе был предмет – «Курс боевых машин». Ну, ничего сложного – общие обзорные лекции. Название предмета обучения предполагало расширенное познание боевых машин, чем оказывалось для нас на самом деле.
В настоящее время я прихожу к мысли, что в те времена преподавательский состав в достаточном объеме сам не получал необходимых знаний. Возможно, материал о боевой технике еще не был обобщен и подготовлен в конечном виде предмета для обучения будущих военных кадров. Ведь после войны и десяти лет еще не прошло. Но и при том неглубоком объеме изучаемого материала почти все курсанты нашего взвода умудрились в первый учебный месяц получить низкие оценки – «тройки» и «двойки».
А теперь подробнее… Кстати, то, что сейчас будет описано, для меня будет иметь судьбоносное значение.
Итак… Конец сентября, возможно, начало октября. Воскресенье. День замечательный. Солнце!
Почти вся рота, выдраив полы всей казармы, заслужила увольнение в город. В казарме от всех четырех взводов остались несколько человек да внутренний наряд из трех человек. Остался и я в это прекрасное воскресенье. Что заставило меня в это, возможно, последнее солнечное воскресенье не вдохнуть свободы – не знаю. Пройдут годы, у меня еще будут вне моего сознания какие-то интуитивные «подсказки». В глубоком возрасте вывод сформируется.
По вышеуказанному предмету с начала учебы к этому времени в нашем взводе неопрошенными остались два-три человека, в том числе и я. Всего во взводе на тот период было 18 курсантов. А оценки получили все крайне низкие. Не помню – были ли четверки. Сыпались тройки и двойки, а двое умудрились получить повторно двойки, один из которых был назначенным командованием командиром отделения. По военной логике он должен быть образцом для подчиненных. Одна из тем занятий была «Двигатель – дизель. Техническая характеристика, работа двигателя».
В Ленинской комнате нашего расположения лежала «бесхозная» книга «Пособие мастеру вождения танков». Чья книга и как она появилась – никто не знал из нас. Курсанты, кому не лень, брали ее – полистают, посмотрят, в лучшем случае что-то прочтут и опять положат. Взял и я ее в то воскресенье. Сел на подоконник открытого окна, освященного теплым солнцем. Помещение наше располагалось на первом этаже. Начал читать интересные места. В книге простым языком излагалась история появления танка, сведения о конструкторах. Описывалось устройство и работа танкового двигателя – дизеля марки В-2 и отдельных его узлов, как топливного насоса, форсунки. Заканчивалась книга описанием и рекомендациями, как танкам преодолевать различные препятствия, проводить эвакуационные работы при различных ситуациях. Для курсантов книга – что надо!
Я зачитался, особенно раздел по двигателю – дизелю. Причем читал этот раздел, не привязав к своему сознанию, что и тема-то последнего занятия была по двигателю. Читал потому, что сам заинтересовался, а о занятии даже не вспомнил. Читал, листал эту книжку часа полтора и, как все, положил на место.
Наступил понедельник, и в этот день было занятие по технической подготовке. И вот мы в классе. Все началось как уже давно нам не вновь. Преподаватель майор Оргиевский. Как всегда встали: «Здравия желаем!».
По-военному четко, без лишних вступительных действий преподаватель перешел к опросу.
Оргиевский: «Двигатель – дизель. Параметры работы двигателя. Курсант Михайлов.»
Курсант Михайлов – я: «Есть!»
Выхожу на середину класса несколько левее стола преподавателя, в полоборота к нему и частично к сидящим товарищам, и… молчу. Слово «параметры» в лекции нигде не упоминалось. Что за «параметры»? Прошли четыре-пять секунд, а я все молчу. Оргиевский ждет, смотрит в свой журнал и, наверное, думает: «Набрал бестолковых. Какие офицеры из них будут? Одни двойки.» Поворачивается ко мне и с возмущением говорит:
– Вы что? Не знаете, как работает двигатель – дизель?
– Знаю.
– Так что же Вы? Рассказывайте!
Я начал отвечать, как все он нам давал в своей лекции. И тут… О, Боже! У меня в памяти стало всплывать все, что я вчера читал в книге «Пособие мастеру вождения танков». Рассказывая о том, что говорил преподаватель, я стал дополнять по ходу ответа тем, что вычитал. «Посыпались» даже микронные размеры распыленных капель топлива, выбрасываемые форсункой под давлением 210 атмосфер. Я увлекся… Только говорю, ничего не вижу, только говорю и не замечаю время. Наконец мои запасы и лекции, и материала из книги исчерпались.
– На данный вопрос курсант Михайлов ответ закончил.
Тишина…
Оргиевский, оказывается, как сидел в полоборота ко мне, слегка отодвинув стул от стола, так и сидит, смотрит в пол. Ребята сидят, не шелохнувшись. На третьей секунде тишины я слегка головой, глазами «спрашиваю» за ближайшим столом ко мне товарища: «В чем дело?» Курсант так же безмолвно слегка поднимает плечи, глазами – мол, «не знаю». Наконец Оргиевский поднимает голову и четко говорит: «Вы будете учиться отлично!» Ставит мне «пятерку». Это первая пятерка во взводе (а может и в роте), и мне, конечно, было приятно. Но особо восторгаться было некогда. Курсантская жизнь такая, что занятия, работы нахлестываются одно на другое, и «смаковать» хорошее, переживать плохое в той или иной ситуации просто нет возможностей. Но немного вернусь к тому уроку. Сейчас даже смех берет. После моего ответа в тот день больше никого не спрашивали по теме – времени не хватило. Оргиевский вкратце успел дать новый материал, и на этом по времени занятие закончилось.
Вскоре я почувствовал, что товарищи во взводе ко мне почти все стали относиться очень хорошо. Не сразу дошло, что и преподаватели как-то меня заметили и, будем считать, «взяли на заметку». Но от этого потом мне один раз пришлось немного пострадать. Произойдет это зимой, когда мы уже стали водить танки, но об этом потом. Ведь только начался октябрь 1954 года.
В отличие от всех первоначальных занятий мы проходили так называемый «курс молодого бойца». В Вооруженных Силах этот курс обязателен. В него входит изучение основных требований воинских Уставов, обучение стрельбе из автомата (для нас еще и из пистолета), сама стрельба. Только по прохождению этого курса военнослужащие принимают Присягу на верность службе и защиту Отечества, допускаются к несению караульной службы.
Помимо всего этого «общего» меня задействовали еще персонально – назначили взводным писарем. Такой должности вообще-то нет, она по совместительству. Должен же кто-то что-то обобщить, подать какие-то сведения начальству в письменном виде. Назначили меня. А еще меня выбрали в редакцию нашей ротной стенгазеты. Как-будто у меня на лбу было написано, что и в школе я все время был в редакции классной газеты.
Жизнь для меня шла, как положено у военных – активно, в то же время размеренно-спокойно, и мне в радость. И только одно меня сильно огорчило – мамино письмо с сообщением, что умерла моя двоюродная сестра Галочка. Галя, прости, прости меня, пожалуйста.
Постепенно от теоретических занятий в классе мы все больше переходили к практическим занятиям в огневом городке. Да, танки мы стали водить раньше автомобилей, причем, только грузовых. Танковое училище в те времена располагалось на окраине города. Территория училища одной стороной выходила на широкий пустырь, далее переходящий в степные просторы как совхозной земли, так и незанятой местности с пологими балками и знаменитой (для нас) возвышенностью Жарин бугор. Почему «знаменитой»? Потому что не один выпуск будущих танкистов отрабатывал на подходах к нему танковую атаку. На самом бугре с его слоеными природными каменными плитами кирками, ломами и лопатами сооружали танковый окоп, который и после нашего выпуска вряд ли был окончательно вырыт в требуемых размерах длины, ширины и глубины.