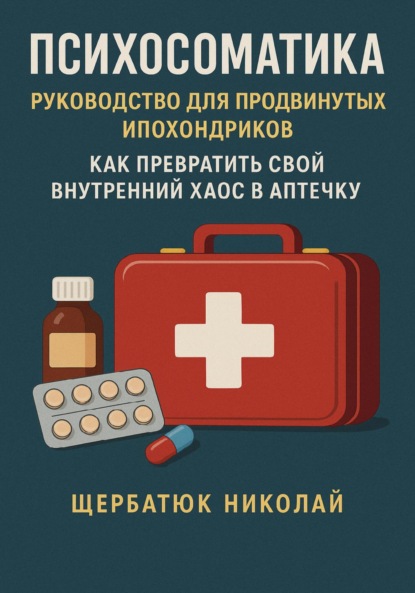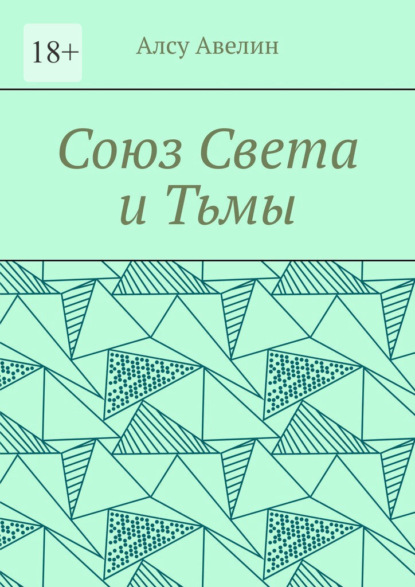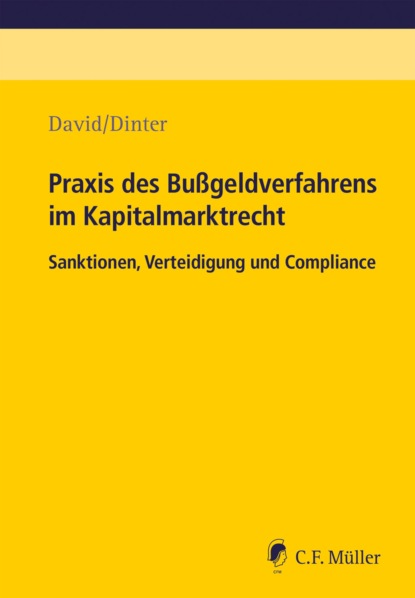В броне по дорогам жизни. Воспоминания офицера-танкиста
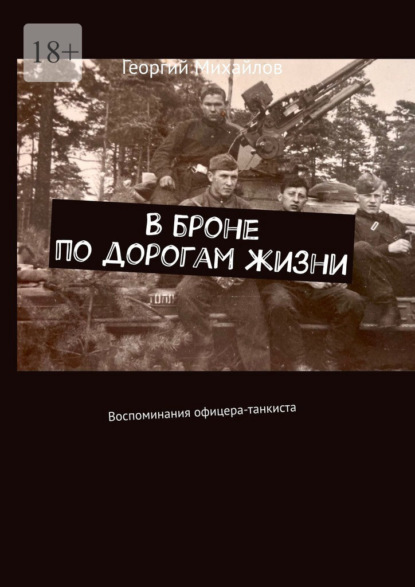
- -
- 100%
- +
Так вот – наш небольшой танкодром был оборудован как раз на прилегающем пустыре. Здесь проводились занятия всех начальных упражнений по вождению танков. Сооружений, сложных препятствий на нем не было. Первое занятие по вождению произошло в октябре, возможно, в первых числах ноября. Ждали с нетерпением, хотя вождением еще и назвать – не назовешь. Если без подробностей, то это заключалось в посадке на место механика-водителя, и под контролем штатного водителя-инструктора производилась заводка двигателя, включение передачи и трогание с места. Движение танка на I – II передачах, задним ходом. Все это повторялось два-три раза. Но, как говорит то ли китайская, то ли японская поговорка – «Даже самый большой путь начинается с первого шага». И уже в ноябре-декабре, пока только в дневное время, мы все смело водили танки на всех передачах по замкнутому кругу пересеченной местности танкодрома. Да, по накатанной траками гусениц дороге ездить легко и уверенно.
Заканчивался и «Курс молодого бойца». Отстреливались упражнения из автомата Калашникова. Каждый курсант получил оружие – автоматы (АК-49), кроме меня. Мне выдали пистолет ТТ (Тульский Токарева). Почему именно мне выдали пистолет, а не автомат, как всем, осталось неизвестным. Да я особо об этом не допытывался. Мне еще и лучше – забот меньше.
Изучались отдельные требования войсковых Уставов и продолжали изучаться.
Текст воинской Присяги все курсанты должны были знать наизусть. Наступил день принятия Присяги, который прошел в торжественной обстановке общепринятого мероприятия в Вооруженных Силах СССР. С этого момента мы – полноправные военнослужащие, защитники своей Родины.
Среди многих обязательств, возложенных на военнослужащих, мы должны были периодически нести караульную службу по охране объектов нашего танкового училища, а иногда и объекта Саратовского военного гарнизона. Этим объектом был склад боеприпасов. Именно этот объект был самым первым в курсантской жизни нашего взвода объектом охраны в первых числах декабря 1954 года. Склад этот находился далеко за пределом города, его местонахождение и окраиной не назовешь. И всего-то один пост – склад боеприпасов. Пост трехсменный, т.е. его по очереди охраняют три человека. Мне досталась последняя, третья смена. Основа охраны состоит в том, что разводящие «старого» караула и вновь прибывшего для суточной службы приводят на пост караульного, которым подменяют сменяемого часового. Этот новый караульный становится часовым с задачей охранять объект пока его так же не сменят. Каждый часовой стоит по два часа. Следующие два караульных – в караульном помещении, один из которых может отдыхать (спать) и только в ночное время. Именно этот – третий- отдохнувший, через два часа будет отведен на пост и заменит первого (часового). Так по очереди они меняют друг друга в четкой последовательности. Тот, что был первым часовым, по прибытию в караульное помещение будет бодрствующей сменой и не имеет права спать. Спать (только ночью) может два часа тот, который перед этим бодрствовал.
Так вот, я был назначен в третью смену. Первый свой караульный пост я запомнил на всю жизнь, т. к. мое заступление часовым произошло ориентировочно в 22 часа. Сами представляете – в декабре это глубокая ночь.
Склад боеприпасов представлял собой одноэтажное кирпичное здание длиной метров 50, шириной около 15 м с узкими прямоугольными окнами под самой крышей. Здание находилось в неглубоком котловане, по периметру которого на расстоянии метров десяти от него возвышался земляной вал высотою, примерно, по уровню основания крыши. Такое построение территории склада с земляным валом не случайное, а специальное. В случае взрывов хранимых боеприпасов наличие и положение вала предотвратит горизонтальное распространение взрывной волны и разлет осколков; сместит это распространение несколько вверх.
С момента принятия поста караульным он называется часовым, и все его команды для любого человека незаконно, случайно или злоумышленно попавшего на территорию объекта должны выполняться беспрекословно. В случаях их невыполнения часовой может и обязан применить оружие. Часовой не имеет права сесть, и его задача постоянно не терять из виду охраняемый объект, территорию и подходы к ней в степени дозволенной возможности природой, рельефом местности.
В моем случае, чтобы это соблюсти, надо было постоянно обходить вокруг все здание. Можете ли вы представить состояние человека, заступившего впервые в жизни на охрану такого объекта, да еще глубокой ночью в «диком» поле? Слух, глаза, нервы – все на взводе. Идешь по натоптанной тропке вдоль стены, но, подходя к углу здания для поворота, от стены немного отходишь в сторону – а вдруг за поворотом меня поджидают, хотя бы для того, чтобы завладеть автоматом. Автомат на правом плече, стволом вперед, правая рука ближе к затвору перезаряжения. Так как уже был декабрь и с хорошим морозцем по ночам, то при заступлении на пост по команде разводящего бывший часовой и заступивший передавали меховую «постовую» шубу. Она была длинная и во всю длину выполнена из плащевого материала. При обходе территории жесткие стебли сухой травы, цепляясь за полы шубы, издавали шуршащие звуки. Первоначально, еще сразу не понимая – откуда это шуршание, невольно останавливаешься и, поворачиваясь во все стороны, осматриваешь заснеженную местность. Все понимал, но инстинкт, важность объекта и ответственность берут свое. Полностью смириться и не обращать внимание на это шуршание практически невозможно, тем более в свой первый караульный наряд.
Впереди, за все три года учебы в СТУ еще будет моя караульная служба на различных охраняемых постах. К одному из них «вернусь», чтобы рассказать вам о загадочном, выше моего разума незримом «спасении» в течение чуть более минутного времени, будучи часовым. Это будет на втором курсе.
Вот и декабрь к концу идет. Мы еще как надо «на отбор» не дошлифованы, но уже и не салаги. И танки водим пока по кругу без преодоления препятствий, но водим, и не робко. Стреляем из танка пока не штатным снарядом, а из вкладного ствола меньшего калибра. Как видите, основные боевые действия всех членов экипажа мы успешно прошли. Именно поэтому имеем моральное право фотографироваться в надетых шлемофонах (Примечание автора: сейчас сделан шуточный вывод, тогда это было простое юношеское желание. Кто-то из курсантов на время выпросил три шлемофона, и мы все сфотографировались).
Новый год пришел и прошел как-то буднично. Январь – снег, морозы. По воскресеньям после завтрака начались лыжные кроссы на время, дистанция 5 км.
С первого раза в норматив времени я не уложился. Считаю, что мне простительно – я из Ростовской области. Зимы у нас короткие (по морозам и снежному покрову). В школах «лыжи» не практиковались. А вот ребятам средне-территориальных областей СССР, тем более москвичам, не простительно.
После первого кросса все мы пришли «мокрые» и раскрасневшиеся, сказывалась наша не тренированность. Пришли в казарму, до обеда еще оставалось какое-то время, и все решили сушить свое нательное белье. Батарейки и спинки кроватей завесили своими белесыми стандартными солдатскими нижними рубахами и кальсонами. Просохли – не просохли – вновь надели, так как подана команда строиться и идти на обед. После кросса почти все про себя сделали вывод, что ржаного хлеба выделяют маловато, а компот можно было бы и подсолить.
На следующее воскресенье для тех, кто не уложился в норматив, – вновь лыжный кросс. Ура! Во второй раз я в нормативное время уложился. Зачет! Ребятам с юга, с Кавказа досталось – вновь незачет. Не уложился во время и наш командир отделения младший сержант Геннадий Шипов – москвич. Геннадий закончил свои «гонки» где-то в первых числах марта. Вот так раньше готовили будущих офицеров.
Получив первоначальные навыки боевой подготовки, мы должны были переходить к выполнению ее более серьезных упражнений. В первую очередь это стрельба на полигоне штатными арт-выстрелами (снарядами) и вождение танка на танкодроме с преодолением препятствий, предусмотренных наставлением по курсу вождения. Удобная база для этого находилась на территории летних полевых лагерей, примерно в 50—60 километрах от Саратова. В основным все полевые практические занятия проводились именно там. В летний период курсанты всех трех курсов в палатках там жили постоянно, а зимой – кратковременно.
Прежде чем знакомить читателя с таким изучаемым нами предметом, как «огневая подготовка» (так же – стрельба из танка), считаю необходимым дать краткую информацию о танке того периода. На то время в танковых войсках Советской Армии танки по «массе» в тоннах распределялись на три вида – тяжелые, средние и легкие. Саратовское таковое училище обучало будущих офицеров-танкистов на средних танках Т-54. Этот средний основной танк пришел на смену прославленному в Отечественной войне танку Т-34-85. Наша учеба совпала с переходным периодом в развитии эффективности управления и ведения огня из танка «с хода». В механических приводах наведения орудия на цель при стрельбе внедрялась система стабилизации, как самого орудия, так и прицела. Это позволяло экипажам танков на поле боя вести огонь по танкам противника (и другим целям), атакуя их, в движении. Самые первые танки Т-54 еще не имели достаточно эффективной системы стабилизации, поэтому первые стрельбы из танка мы осваивали с коротких остановок. К третьему курсу в училище появились танки, модифицированные стабилизатором «Горизонт», и все стрельбы штатным снарядом выполнялись только «с хода». Калибр пушки танка Т-54 – 100 мм. (Примечание автора: калибр пушки Т-34-85 – 85 мм).
В январе с целью проведения полевых занятий, в том числе наших первых стрельб штатным снарядом, надо было перегнать несколько танков в училищные летние лагеря. Этот перегон командование возложило на наш взвод. Получить такую «практику», как вождение танка по пересеченной заснеженной местности, это было здорово. В назначенное время мы пришли в технический класс вождения. Танки уже стояли в колонне. Преподаватель по вождению майор Киселев должен был распределить нас по танкам и по очередности его управления.
А сейчас хочу напомнить о занятиях по «Курсу боевых машин» и моих тогда еще сомнительных выводах, что преподаватели в какой-то степени взяли меня «на заметку».
Итак, после некоторых распоряжений взвод у колонны танков построился, и майор Киселев зачитал фамилии курсантов по очередности управления и какого танка. Надо сказать, что еще до этого я был в состоянии некоторой беспечности, так как рассуждал мысленно: «Фамилия моя в списках (в журналах) не первая, уж первым я никак не поведу танк. А там видно будет – соберусь, приноровлюсь».
Каково же стало мое состояние, когда майор огласил мою фамилию первую и на головной танк!
Команда: «По машинам!
До выезда из города танки вели штатные механики- водители.
Вот окраина кончилась, впереди ровное белое поле, справа от нас вдаль – деревянные столбы линии электропередачи. А мы, должно быть, стоим на полевой грунтовой дороге, которую не видим – нет ни одного следа. Ни одна машина с утра еще не проходила по этой дороге. Механик-водитель вылез из своего люка, а я занял его место. Подключился к аппарату внутренней связи танковой радиостанции. Майор Киселев запросил: «Как меня слышишь?»
– Слышу хорошо.
– Заводи.
– К движению готов.
– Вперед.
Вот и сказалась наша однообразная по кругу езда по училищному танкодрому. Первая, вторая передача… Не разгоняюсь. Хотя все мы ехали с открытым люком, и впереди лежащая местность хорошо просматривалась, я никогда не водил танк в таких условиях, поэтому ехал нерешительно. Майор – по связи: «Больше скорость!»
Если я и включал третью передачу, то все равно достаточно возможной и большей скорости не развивал. По своей неопытности думал: «А вдруг под снегом яма». Тогда я еще не знал, что для танка будет называться ямой?
Проехали определенную часть пути, остановились. Была произведена замена. Мое место теперь в башне, на месте заряжающего орудия. Майор Киселев сказал мне: «Плохо водишь». Расстроен я был ужасно. «Ну, какой я танкист?!», – торчала одна и та же мысль в моей голове. Отвратительные мысли и чувства долго не покидали меня, но, еще находясь на марше, я все же «собрался» и твердо решил, что в будущем обязательно научусь водить танк не хуже других. Буду стремиться водить танки всегда до мастерства.
В этом моем повествовании в дальнейшем о моей службе мы еще вернемся к этой теме. Однако уже сейчас я хочу передать вам, читатели, свое суждение, свои выводы о таком человеческом факторе, как моральная, товарищеская поддержка, взаимопомощь, столь важные вообще в танковых экипажах. Пройдет несколько лет службы моей в должности командира танкового взвода. Служба сама скажет, что танковый экипаж – это братская семья, где каждый член экипажа всегда должен подстраховывать своего товарища. В первую очередь эти качества должны быть у командира. Мы, командиры, как лично своего танка, так и танков всего подразделения, будь то при стрельбе, или на марше, всегда были начеку, чтобы немедленно принять необходимое решение, подсказать или даже просто подбодрить своего подчиненного. Неужели майор Киселев не понимал, что мы, особенно кто ведет головную машину, в таких условиях впервые совершаем марш, что у нас еще не было на это никакого опыта?
Сейчас я приведу пример одной из ситуации из своей служебной деятельности.
Группа Советских войск в Германии. Район – Саксония. Цайтхайн. Я – лейтенант, командир второго взвода первой танковой роты. Плановое занятие по вождению танков на танкодроме с преодолением препятствия ночью с приборами ночного видения.
Прибыли на танкодром. Установили на танках ночные приборы. Танки – Т-54. Время года – поздняя осень 1958 года, конец ноября. Ночами уже были морозы. Хотя мой взвод второй, но командир роты дал указание моему взводу первым начинать заезды. Это значит, что первым будет выполнять упражнения мой экипаж и в частности – первым ведет мой механик-водитель, во второй заезд должен вести командир, т. е. я.
Мой механик-водитель младший сержант Анатолий Соболев водил танк хорошо, был достаточно опытным и служил в роте уже почти два года. Я в нем нисколько не сомневался. Но вот, когда уже пройдя весь круг танкодрома и преодолев все положенные препятствия до финиша оставалось почти по прямой метров двести пятьдесят, въехав в низину, механик сбавил ход и говорит по связи: «Ничего не вижу! В приборах какая-то серая пелена». Я открыл свой люк, резко встал в башне, пытаюсь разглядеть, что там мешает смотреть в прибор ночного видения. Но ночь, мне ничего не видно. Все упражнения у нас по вождению выполнялись по нормативам. Для каждого класса мастерства по вождению был определен свой временной норматив. Не уложившись во время, оценка понижалась. Мой механик уже имел 2-й класс. Мы не останавливаемся, и я говорю ему: «Толик, веди, не бойся и слушай меня внимательно. Прибавляй газу, я все вижу и буду тебе все говорить. Пока жми, до финиша 150 метров».
– До финиша 50 метров.
Подравниваем машину, чтобы четко войти между столбами на финише.
– До финиша 20… 10… 5… Стоп!
Мой водитель вел танк вслепую, по командам.
Отключаюсь от рации, почти спрыгиваю с башни на землю, бегом к носовой части танка… Громадная льдина неровным метровым куском наползла по наклонному переднему броневому листу корпуса танка и, зацепившись за водоограждающую доску, накрыла смотровые приборы механика- водителя. Анатолий вылезает из своего люка. Говорю ему: «Смотри – какую льдину подцепил!»
Как все произошло? В той последней на трассе, довольно глубокой низине замерзла вода. Мы начали движение первыми. Танк, доехав до кромки льда (носовой частью вниз), гусеницами подмял ее края, льдина чуть поднялась и легла на передний наклонный лист корпуса. Танк, продолжая движение, «напялил» эту льдину на себя окончательно. У танкистов в условиях их активной учебно-боевой деятельности встречаются различные ситуации, и экипажная взаимовыручка вросла в эту деятельность.
Возвращаемся к прерванной теме…
Наши первые стрельбы штатным снарядом на полигоне учебного (летнего) центра училища.
Я не буду описывать подробно весь учебный процесс, это в нашем случае для читателя и не надо. Однако, как и что происходит в этот момент в танке, и как действует экипаж, считаю, что читателю будет интересно. В те годы экипаж танка состоял из четырех человек. Мы, курсанты, не подразделялись на штатные экипажи, и в каждом частном случае исполняли любые должности члена экипажа, кроме механика-водителя. А это: командир танка, наводчик орудия и заряжающий. Для меня первая стрельба штатным снарядом больше произвела впечатление при исполнении должности командира танка. Стрельба велась с коротких остановок. Танк движется на сближение с танком противника (фанерно-деревянный макет танка неподвижен), расположенного по условию упражнения на расстоянии примерно 1300—1400 м от нашего рубежа атаки. Заряжающий на ходу заряжает орудие снарядом и докладывает по внутренней связи (все члены экипажа слышат): «Бронебойным готово!» Командир танка дает команду на открытие огня. Наводчик наводит прицельную марку на цель пультом управления. Механик-водитель, услышав заряжающего о готовности орудия, самостоятельно чуть сбавляет скорость, чтобы наводчик точнее и лучше прицелился. Наводчик, наведя прицельную марку на центр цели, говорит: «Короткая». Водитель останавливает танк. Наводчик, если надо, подправляет наводку, предупреждает: «Выстрел» и нажимает на кнопку электро-пуска на пульте управления прицелом. Механик, не дожидаясь команды, вновь начинает движение.
Все эти команды-сообщения членов экипажа обязательны, как требования техники безопасности. В момент выстрела происходит откат назад ствола орудия и его казенника (затворная часть орудия, куда заряжающий вставляет арт. выстрел – снаряд в сборе со снаряженной гильзой). Каждое орудие конструктивно изготовлено и смонтировано с откатником и накатником. Откатник поглощает энергию отката ствола при выстреле, а накатник возвращает ствол с его узлами (казенник) в исходное положение.
Тем не менее, для сведения – танк при выстреле, если стоит неподвижно, откатывается назад на всю ширину одного трака гусеницы, а казенная часть ствола отходит назад на 400 и более миллиметров.
Так чем же первая стрельба производит впечатление? При стрельбе по наземным целям ствол орудия занимает, как правило, горизонтальное положение. Почти на всех марках наших танков место командира в башне слева от всей пушечной системы. Поперечная ось положения сидения командира пересечется с осью ствола (казенника) в танке Т-54 ориентировочно в точке, куда при откате почти доходит затворная часть казенника. При горизонтальном положении ствола казенник будет на уровне груди сидящего командира и на расстоянии не больше 50 см. Конечно, ничего этого я не мерил, и все это я пишу, вспоминая мои зрительные представления.
А теперь представляйте…
Выстрел, откат ствола, резко рядом движется его затворная часть с остатками сгорающего пороха (пламя), вылетает гильза и звякает у тебя под правой ногой. Запах пороха, сизый дымок…
Первый раз впечатляет, потом уже на это не обращаешь внимание.
Но вы теперь можете представить, какая загазованность была в танках во время боя. В башне танка есть вытяжной вентилятор, при стрельбе его включают. В настоящее время современная бронетанковая техника оснащена устройством, улучшающим жизнедеятельность экипажа, а элемент отстрелянной гильзы автоматом выбрасывается из башни наружу.
К описаниям стрельбы из танка мы еще не раз вернемся как в период обучения в училище, так и в зрелые годы своей службы в танковых полках.
На первом курсе полевых занятий по программе обучения было немного. Основная нагрузка, особенно в зимнее время, приходилась на втором курсе. Также были на полигоне стрельбы штатными снарядами, тактическая подготовка. О тактической подготовке надо поговорить особо.
Так как второе танковое училище, в котором мы обучались, было «командное», то этому предмету уделялось большое внимание. Для гражданских читателей разъясняю, что основная задача этого предмета – изучение основ организации и ведения боя, боевых сражений. Это первоначальная основа «Военной науки».
Среди многих выработанных временем направлений, в эту науку включены и такие как тактика, стратегия и военное искусство.
Тактика определяет первоначальные организационные вопросы подготовки к бою и ведение его первичными подразделениями и более крупными, включая воинские части.
Стратегия – проработка военных операций, крупных сражений и их проведение воинскими частями с участием родов войск.
Военное искусство. Тут лучше сказать коротко – разработка, организация и ведение крупных сражений Вооруженными Силами страны на государственном уровне, включая вопросы ведения войны.
Наш уровень обучения в училище – тактика. За три года мы должны были тактическое мастерство отработать и в классах на картах, и в полевых условиях в объеме ведения боя силами танкового батальона, частично – полком.
До стратегии мы не доходили. Дай Бог тактические задачи научиться грамотно выполнять.
Анализируя свою пройденную службу, я считаю, что тактическую подготовку в училище с нами проводили на достаточно хорошем уровне. На всех тактических полевых занятиях в танковых полках после училища я всегда чувствовал себя уверенно.
Тактическую подготовку в училище нам преподавали два офицера: майор Довгань и подполковник Кавардаков. Оба прошли Великую Отечественную войну. Уж Кавардаков – это точно! Боевой танкист до мозга костей!
Довгань преподавал «теорию», на тактических картах в классе, реже – в поле. Организация боя. Возможно, он раньше работал в штабе.
Кавардаков – практик. Познав его характер и действия, даже фамилию его невольно начинаешь воспринимать по-другому; думается, что фамилия дана из-за его возможных действий. На этот счет запомнились одни ученья, проводимые в училище в начале марта (8-го марта). Кстати, в вопросах приобретения навыков действий командира мы, курсанты, на этих учениях, считаю, ничего не получили. Впоследствии у меня сложилось мнение, что эти учения были организованы больше для офицеров училища, а мы – «рядовые» участники впервые знакомились с тем, чего не должно быть. Сейчас убедитесь…
Наша курсантская рота на этих учениях была распределена во взводах на «танкистов» и «мотострелков» с последующей взаимозаменой этих категорий. На первом этапе учений я был «танкистом» в должности командира танка. В ночное время танки совершали то ли наступление, то ли «странный марш» вне колонны, а по заснеженному полю. По крайней мере я, как командир танка, никакой задачи не получал. Танки вели штатные механики- водители, скорее всего они и получили тактическую задачу. В эти времена года мартовский снег уже довольно плотно заполнил низины и лощины полевой местности. Один из танков, въехав в такую лощину, где снега было значительно больше, чем на взгорке, подмяв его корпусом, сел на днище. Гусеницы прокрутились, опоры нет, танк ни с места. Остановились и ближайшие танки, в том числе и мой. (Какое показательное наступление!) Экипажи вышли из танков. Надо оказать помощь. Мы, еще бестолковые, ждем команды. И тут нашелся один офицер (нам ранее не знакомый) и стал командовать: «Курсанты, снимайте с танков лопаты, откапывайте танк.»
Мы – исполнительные, дисциплинированные – кинулись к своим танкам, поснимали лопаты и – быстро к застрявшему танку…
Как могли, на сколько доставала лопата, выгребли снег под днищем передней части корпуса. Механик завел танк, двинулся вперед, прополз метра два, снова на днище… Курсанты вновь за лопаты. И так раза три. Все взмокли.
И тут «подлетает» подполковник Кавардаков. Он несколько секунд удивленно смотрит на эту кутерьму, вслух вспоминает чью-то мать (что всегда в таких случаях характерно для русской нации) и говорит:
«Двадцать пять лет в танковых войсках – ни разу не видел, чтобы танк откапывали от снега лопатами! А бревно для чего у вас?!» Далее последовала короткая команда – что делать.
Поясняю читателям.
Обратите внимание: на всех показываемых в СМИ «действующих» танках (кроме на Параде в Москве) на задней части их кормы, сверху закреплено обычное бревно – ствол сосны, окрашенный под цвет танка. Оно служит для самовытаскивания танка. В ЗИПе каждого танка (запасное имущество, принадлежности) имеются два стальных тросика с зацепками на концах. При посадке танка днищем на спрессованный снег бревно экипажем кладется поперек под передними гусеницами, каждым тросиком это бревно охватывается перекрестием, а зацепки – защелки вставляются в полости отлитых форм трака левой и правой гусеницы, защелкиваются. Водитель начинает движение, гусеницы сразу же наползают на бревно и этим слегка поднимают переднюю часть танка. Танк прокатывается по лежащему поперек бревну на всю длину нижних опорной части гусениц. Тросики снимают, все переносится вновь к носовой части танка и, при необходимости, операцию самовытаскивания повторяют.