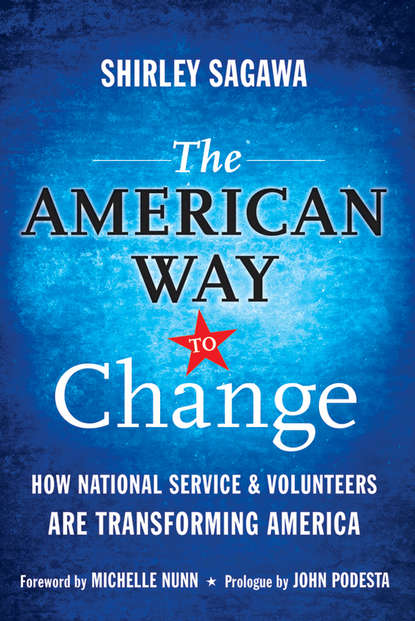Бессмертный цветок империи

- -
- 100%
- +
То ли горячий пот струился вниз по лбу, то ли слезы сестры крупными горошинами выходили из глаз – она не понимала. Дрожащие руки никак не могли совершить последнее: нырнуть вместе с еще дышащим телом ребенка в гладь чистой воды, дожидаясь конца ее небольшой тирады. Подушечками ледяных пальцев чувствовалось взволнованное биение сердца младенца, его мягкое, ни на что не похожее тепло тела и вздымающаяся в робости грудь. Она не могла согрешить. Служительница Фира не могла даже представить, что через секунду будет держать в руках бездыханный труп младенца, обмякшей бумагой повисший на ее дрожащих руках. Вода, казалось, заполонила собой всю купальню, забив уши. Ком в горле не давал вздохнуть. Девушка дышала обрывками, хлюпая носом, заглатывая клубы воздуха ртом, дабы прийти в себя.
Шли минуты. Маленькие ножки до сих пор бултыхались в воде, так и не сдвинувшись с места. Казалось, пройдет вечность, пока окаменевшая фигура сестры шелохнется, решившись на грехопадение.
Наконец, дрогнул мускул на ее лице, руки вновь заработали, будто под чьим-то давлением, будто кто-то вылил в суставы целую масленку. Она неуверенно подняла над уровнем воды ребенка, перехватив его удобнее, чтобы можно было развернуть лицом к себе. Аккуратно подложив небольшую ладонь под шею, придерживая голову, девушка взглянула в ее глаза, занимающие почти все лицо.
На нее смотрела пара блестящих иловых глаз: «Так походят на материнские изумруды», – сестра еле заметно улыбнулась. Надкусанная губа треснула, будто струна старого инструмента, и тонкая струя крови аккуратно разлилась по обветренным рельефам ее сухих уст. Ребенок в ее руках вязко хныкнул, в удивлении раскрыв огромные глаза. Монахиня, промокнув влажные губы об собственное плечо, облаченное в темное одеяние, наклонилась лицом к лику ребенка, неловко, робко, аккуратно проведя своим носом по кнопке носа чада. От щекотки девочка встрепенулась, поджав в причмоке губы. Ее светлый волос серебрился на неярком свету, напоминая волнующиеся поля ковыля, подвластные тонкому суховею; она неумело заулыбалась на действия юной монахини, глаза которой до сих пор стыли в тумане слез.
– Как я только могла пытаться…
Женский, материнский, отчаянный писк слегка выбился сквозь шум воды. Сестра тепло прижала к себе ребенка, сжимая его в слабых тисках.
– Мы сбежим… слышишь? сбежим…
Вода лилась через края: тонкий водоскат струился за борт ванны, широким ручьем выливаясь на каменные ступени, впадая в невеликий бассейн. Стоявшие на полу свечи мягко рябели в отражении воды, показывая танец своего искаженного пламени.
Пальцы ног сестры хлюпали из-за влажной ткани туфель. Она пеленала ребенка в еще один слой пледа при выходе из купальни, хорошенько закутав маленькое тело в толщу шерстяной ткани. Кажется, она спала: маленькие ноздри жадно поглощали спертый воздух, шумно вдыхая его, и также шумно он выходил.
Свечи все тлели. Темнота сгущалась. Посторонний шум не пробивался сквозь барабан воды, выходящий из крана и льющийся за свои пределы, затапливая округу, – несколько подсвечников снесло потоком воды на дно купальни, но блеск золота все еще слабо виднелся, хотя утопился как морские судна. Духота поднималась вслед за водой.
Водяной пожар охватил комнату, потихоньку дурманя присутствующих: девочка, казалось, задохнулась, находясь на суше, а монахиня потихоньку сходила с ума, сняв с себя серую шаль – единственное, что хоть как-то грело бы ее в пургу.
Взяв малышку на руки, она в очередной раз взглянула на детское лицо: не тронутая морщиной и румяная от жары кожа, спокойные бесцветные брови, близко прилегшие к глазам, закрытые в смертном упокоении. Только колыхались круглые ноздри, и редко слышался слабый причмок округлых губ. Девушка, повернув лицом к своей груди ребенка, пошла к очередной пробковой двери. Она успела облезть, какие-то волокна дерева поднялись круглой тонкой опилкой в спираль, замохнатив неопрятную дверь. Как только рука девушки потянулась к дверной ручке, кусок гниющего дерева со свистом раскрылся, ударившись о холодную каменную стену, на которой засел тонкий слой искрящегося инея, паутиной прилегший вверх к потолку.
Костлявая запыхавшаяся акушерка, повязав голову шалью, стояла на пороге; позади копошился бесполезный конвой, выглядывающий из-за ее спины. Сердце юной монахини глухо билось в пятках, волнение прилегло к корню языка резкой тошнотой. Ее налитые стынущим страхом глаза, казалось, лопнут от напряжения; зрачки нервно бежали, высматривая брешь в человеческой преграде.
– «Поймали!!», – в ужасе думает юная монахиня.
Девушка с опаской попятилась назад. Вода уже заливалась в обувь, образовывая грязную лужу. В спину ударял теплый бриз.
– Чертовка, слинять надумала? – она держала в руке отсыревшие розги и, прихрамывая, входила в купальню, пропустив вперед несколько гвардейцев. – Передай младенца стражникам, немедленно!
Девушка походила на промерзшего воробья, которого окружили бездомные коты, жадно шипящие, показывая острые клыки. Намертво вцепившись в многослойный кокон, она замотала из стороны в сторону головой, продолжая маленькими шажками пятиться назад.
Удар розог о плиты. Один, второй… с каждым ударом теснее становилось в груди, с каждым ударом все сильнее билось в тисках сердце, с каждым ударом звук становился оглушительнее предыдущего. Сестра прикрыла глаза и наклонила голову к ребенку. В ушах болезненно зазвенело, тело зашатало из стороны в сторону. Колючий удар прутьев об икры пронзил жгучей болью плоть. Девушка, разбив коленные чашечки, упала, закрыв собой тело ребенка. Ее спина все продолжала, продолжала и продолжала принимать свистящие в воздухе удары палок, ситцевое одеяние неприятно намокло.
Рождество за окном все продолжалось. Свет в окнах горожан приятно манил к себе. А свистящий ветер, до сих пор поющий игривую песню о самом себе, скрывал ужас, который таил в себе дворец.
К сожалению, рождение пришлось на Рождество.
Глава 1. Названная принцесса
IЗалитая охрой кухня напоминала подтаявшее масло, которое забыли на столе. Оно уже успело вылиться наружу из неглубокой плошки и зловонием обдать всю комнату, навивая тошноту. Оно было подобно воску.
В последний раз здесь убирались в прошлом столетии, потому что померкшая на стенах вощина вновь стала тянуться книзу отвратительной слизью, проваливаясь в самую гущу. Жара стояла немыслимая. Доказательство тому – прислуга, с не самым огромным желанием вышедшая наружу. Слышно было только довольно работавшую где-то на балконе прачку, по локоть плещущейся белье в прохладной водичке. Остальным оставалось лишь с завистью махать метлой, точно забыв, как ею пользоваться, да пыхтеть на кухне, чтобы вновь угодить обедом королевской чете.
Мясистая кухарка, которую, к удивлению, не сразу вышло заметить, перекатывалась с ноги на ногу из-за угловатого проема кладовой, в руках держа увесистый мешок со сластью. И хоть это считалось истинной роскошью даже для их небольшого королевства, все же, королева Элиза никогда не скупилась на свой комфорт. Совершенно новый пятикилограммовый мешок был заказан этим утром и вот уже к обеду он был доставлен в угоду королеве Элизе. Держа в собственных руках столь драгоценный товар, повариха умудрялась ехидно вдавливать пальцы в окаменелые куски сахарного песка, разрушая их словно песчаные замки на берегу морского побережья. Она знала, что бо́льшая часть достанется главной палате, когда два небольших стакана сюда, во всеми забытую палату незаконнорожденного ребенка его величества. Именно это позволяло ей относиться к своей работе халатно, хотя на ней и лежала ответственность за разделение порций между двумя дворцами. Кухарка просто была рада знать, что сегодня ей перепадет замечательный десерт, который никогда не доставался незаконнорожденной принцессе. В этом и причина столь несерьезного отношения и пренебрежения своими обязанностями.
Пытаясь идти, кое-как пританцовывая, повариха Гризельда совершенно забыла, что кухня была разделена еле заметной взору ступенькой, в которую как раз и вошел мыс ее дырявой обуви. Она, словно взбухшее тесто, насупилась, пытаясь своими квадратными ладонями в воздухе словить летящий мешок, но струя блестящего сахарного песка взмыла ввысь, тут же волной разбившись об пол с характерным отзвуком. «Еще не все потеряно!», – думается ей, пока ее громоздкое и неуклюжее тело не ныряет в когда-то упругий мешок, расплескав вокруг себя целый млечный путь из дорогостоящей сласти. Оглядевшись вокруг себя, Гризельда пустила слезу. Не от того, что ей придется столкнуться с мсье Грегуаром за свою оплошность, и не от того, что экономка Мари станет упрекать ее каждый раз при встрече, а от того, что сегодняшний долгожданный тарт, рецепт которого она упрашивала несколько месяцев у главного повара, сегодня она никак не сможет испробовать. Она буквально была раздавлена тем, что все так обернулось.
Вновь взглянув на беспорядок, она тяжело вздохнула. Ей еще ни разу не приходилось сталкиваться с подобным, потому пришлось мириться с тем, что половина сахара была испорчена. Но тут ее взгляд натыкается на туалетное ведро, притащенное ею часом ранее, на трехлитровую стеклянную банку в углу и деревянную плошку с характерным выгнутым носом. «Вот оно!», – раздается в ее голове. Остается только подняться.
Она копошилась словно шмель, опьяневший от сахарной водички, но встать ей так и не свезло. Песок под ее огромной тушей уже весь закарамелился, потому что пот с ее кожи точно градом скатывался вниз, заминировав все вокруг. И все же ей как-то удалось подцепить пальцами ног и плошку, и туалетное ведро, и банку, а самой слегка отодвинуться назад, лишь бы смочь спасти сласть, чтобы не словить затрещину от экономки. Да, ей так и не удастся попробовать тарт, но вот всеми забытой принцессе…
Из пакостной работы ее вывел посторонний шум. «Это чертова Мари!!», – кричит ее нутро, ускоряя пульс до предела. Кухарка пыталась спрятаться за большим округлым столом, но к ее досаде он не был столь большим, как она сама. И все же Гризельда не теряла надежду. Она попыталась сгорбиться, вогнуть внутрь свою пышную грудь, лишь бы влиться в себя, лишь бы стать схожей с тестом, отдыхавшее на столешнице. Но ничего не вышло. Кто-то подходил все ближе и ближе, пока не навис над ней горгульей, как бы насмехаясь над увиденным.
– Бог ты мой!.. – ахнул до слез узнаваемый голос Жоржин.
Ее старая (в прямом смысле этого слова) подруга прижала к губам руки, громко ахнув. Гризельда вновь пустила слезу, взяв в свои огромные ладони тощую ручку Жоржин, по виду напоминавшая куриную лапку.
– Сам Фир благоволит мне! – завыла она, губами воткнувшись в морщинистую кожу старухи, принявшись зацеловывать ее.
Старая горничная откашлялась, брезгливо вырвав свою руку из липких ладоней кухарки.
– Ну и натворила ты делов, – со своеобразным старческим манером высказалась она, оглядывая вокруг себя скромную душную комнатерку. А после ей точно поплохело. – Это чего-сь?.. сласть?.. – ослаблено поинтересовалась Жоржин, точно не доверяя собственным глазам.
Старуха прекрасно знала, что за такие убытки не смогут расплатиться даже личные служанки королевы, не говоря уже о простых пешках старого дворца. Попятившись назад, она надеялась, что ей удастся скрыться, уйти куда угодно, лишь бы ее никак не связали с этим происшествием.
– Она, она. – Снисходительно выдала Гризельда, продолжив собирать песочек.
– Бог ты мой… – вновь ахнула Жоржин.
– Ты всегда была такой! – брезгливо наморщилась повариха, толкнув к подруге наполовину заполненную банку. – Помогай давай. – А после добавила: – Эту банку во дворец пустим, а это… – кухарка потрясла смердящим содержимым, кивая к столу, – здеся будет.
Жоржин не нужно было наклоняться для того, чтобы увидеть переполненное ведрышко со зловонным запахом, ведь ее наслоенный горб постоянно держал ее в крючковатом положении. Она только слегка углубила туда свое птичье лицо, понурым носом почти войдя в полость ведра, а после с ярким стоном отвращения выпрямилась с хрустом в позвонке, выдавив стон уже от боли.
– Это?..
Повариха кивнула с такой гордостью, будто нашла реликвию в этом богом забытом месте.
– Оно самое. – Гордо выпалила она и, завидев неодобрительный взгляд старухи, нахмурилась. – И вообще не для морали подозвали, ишь! – возмутилась Гризельда.
Действительно, мораль! какое тонкое словцо для столь пышной дамочки. Лицо Жоржин скривилось в раздражении, но даже так она не отпрянула, пытаясь прикинуть, сколько еще им осталось собрать в главный дворец.
– И все же, – кряхтит старая горничная, унося банку в сторону, – скажи мне вот что, – продолжает она, – тебе ж либо увольнительную выпишут, либо вовсе и медяка не увишь, как Мари, горбатясь за так. – Это имя она произнесла с особой брезгливостью, как бы показывая, что она не питает особенных чувств к экономке.
Гризельда запыхтела, разразившись тяжелым смехом на всю кухню. Ее ржач, подобный неугомонной кобыле, понур спустя минуту, когда та подавилась слюной, начав громко откашливаться. Сие сравнение вызывало только заливистый приступ смеха, но никак не страх оказаться в столь неприглядном положении во дворце.
– Скажешь тоже. – Саркастично отозвалась она, махнув потной ладошкой.
И все же, что бы она не говорила, но как только ей послышалась знакомая хромая поступь вдалеке, то с и без того вонючей и липкой Гризельды пот сошел градом вниз, залив все белоснежное пространство желтоватой жидкостью. Жоржин показалось, что кухарка обмочилась, при этом свалившись в остатки когда-то не тронутого грязью песка.
По ту сторону коридора действительно вышагивала Мари. Та самая экономка Мари, сравнение с которой вызывает только смех. Но не при встрече.
При встрече каждый молится, лишь бы увиденное ею происшествие не дошло до чужих глаз, лишь бы она не заперла никого в комнате, отбивая сотню ударов плетью, лишь бы она просто прошла мимо, чтобы даже взгляд не метнулся ни к чему, что могло показаться для нее подозрительным. Гризельда надеялась на авось, пытаясь зарыться глубже в остатках песка, уронив впопыхах колпак, заскользивший к выходу. Жоржин же вовсе отлетела от места как ошпаренная, прикладывая к губам руку: «Нужно спасаться», – рассуждала она, ища взглядом хоть что-то, что могло бы подарить ей помилование. Ничего не придумав более, старуха ахнула, что есть мочи, приложив к губам костлявые руки. Казалось, только это она и умела – ухать, подобно пернатой.
– Ах, Гризельда!.. – в полуобморочном состоянии провопила горничная, боковым зрением заметив, что Мари замерла у входа.
Предательство, которое ощутила повариха, полностью отразилось в ее глазах в виде слезной пелены. Из них двоих, хоть Гризельда и не отличалась умом, все же она была куда отважнее Жоржин, которая, как кажется поварихе, еще в молодости была крысой, бегущей с тонущего корабля. И все же ей действительно хотелось встать на колени, моля о пощаде, лишь бы случившееся так и осталось тайной.
Во что бы каждая не верила, но искать виноватых – падшее дело. Мари бы и без подачки Жоржин зашла в эту злополучную кухню, чтобы в привычной манере осуществить обход. И они знали это, но даже этих знаний им не хватило, чтобы предотвратить столкновение с экономкой.
– Как?! – застонала старуха, оглядывая под ногами ведро. – Как ты только додумалась отсылать это ее величеству королеве, вынашивающей первенца?! – невозмутимо поинтересовалась она.
Послышался несправедливый вопль Гризельды. Слезы были крупнее тех, что она проронила над несбывшимися мечтами испробовать новый рецепт долгожданного тарта. Она буквально ощутила все краски печали, которые только могли на нее обрушиться, и завыла, не зная, куда податься дальше.
Но вот Мари знала, за какие ниточки тянуть. Хромой поступью, слегка помогая себе облезлой палкой, она элегантно прошла через кухню, замерев прямо возле зловонного места, откуда помоями несло бы даже без переполненного туалетного ведра. Скривив свое молодое лицо до неузнаваемости, Мари оскалилась, замахнувшись выдуманной тростью. Пригнулась и без того напуганная Гизельда, содрогнулась и без того щуплая Жоржин, и каждая из них думала, кто же первый словит затрещину. Но сильный, по истине, желанный удар сначала словила стеклянная банка, тотчас лопнувшая, а после и ведро, содержимое которого высыпалось прямо в лицо разлегшейся на полу кухарки.
Никто даже не мог вспомнить, когда только Мари в последний раз так сильно злилась. Ее и без того всегда румяное лицо побагровело, будто кожу обмазали свеклой, а совсем юные черты лица исчезли с глаз. Им показался озлобленный старческий лик женщины сорока лет, а не юной двадцатитрехлетней дамы, которая удостоилась своего звания экономки. Мари действительно постарела в несколько раз, а ее выбившиеся седые пряди теперь шли ей как никогда. Этот озлобленный вид девушки вселил и в Гризельду и в Жоржин неподдельного вида ужас, о котором вскоре будет судачить весь старый дворец. А все потому, что Мари прекрасно знала, кому предназначалось туалетное ведро.
– М-мад-демуа… – прогудела Гризельда, подавшись вперед, но Мари гневно ударила по ее рукам палкой, прорычав:
– Молчать!
Ее голос разлился по всей кухне, заставив жмуриться. За окном послышался гомон. Вся уличная прислуга, которая крутилась рядом с пристройкой, столпилась возле раскрытых ставней. Одна за другой пыталась вытиснуть каждую, которая пробиралась ближе к раме, но даже в этой неугомонной толпе все было прекрасно видно, а главное – слышно.
Завидев, что и без того ленивая толпа зевак в лице подчиненных Мари накинулась на представление так, словно дотошные мухи на конный навоз, она невозмутимо развернулась, обдав каждую безумным взглядом.
– За работу. – Твердо сказала экономка, сильнее выпучив зеленые глаза.
Когда женщины покосились друг на друга, то Мари рявкнула, ударив по полу:
– За работу, бесстыжие! Вечером всех буду ждать в зале, и только попробуйте ослушаться!
После чего вся толпа, точно задрожав, ринулась врассыпную. Меньше всего им хотелось провести вечер за нотациями, но теперь это ненавистное время они сами для себя и уготовили.
Наконец, послышался шелест работы. Лицо Мари пришло в покой ровно до тех пор, пока она не завидела Гризельду, свиньей разлегшейся у нее в ногах с мольбами.
Она ныла, завывая при этом, иногда хрюкала, проглатывая сопли через глотку. Взору все же отрылся свежий желтый след, который в себя напитал сахар, а в россыпи лучей сей вид искрился, словно свежая карамель.
До чего же омерзительно.
– П-пр-ош-у-у-у, – воет кухарка, издав жалостливый стон, – н-не ув-вол-лн-няй-йт-те…
– Замолчи. – Требует Мари, брезгливо сморщив рот.
А после она взглянула на Жоржин.
– Ты. – Указала она на нее. Та безобидно улыбнулась, прислонив к своей груди палец. – Сюда.
Старая горничная похромала, показав, что она совершенно не способна на пакость, которую совершила Гризельда. Гордо вскинув подбородок, она замерла возле поварихи, скрестив впереди руки.
– Приберитесь здесь. – Скомандовала женщина.
– Как прикажете, мадемуазель, – замолвила Жоржин.
Развернувшись, Мари засеменила к выходу. И без того идя слишком медленно, она все же оступилась, тростью зацепив злостный колпак, который должен находиться на голове кухарки. Приглядевшись, она завидела посеревшую резинку, на которой шевелились белесые личинки, и жирные пятна по всей ткани. Кое-как удержав приступ тошноты, Мари развернулась в левый профиль, еле окинув взглядом корчащуюся прислугу на полу.
– Ты уволена, Гризельда, – констатировала женщина, завидев ликующий вид горничной, – и ты, Жоржин. – А после к ее удивлению добавила: – Тебе недавно перевалило за шестой десяток, верно ведь? – на выдохе проговорила Мари. – Прислуга давно не жалует твоей работы. Говорят, мол, Жоржин так стара, что и пыли не замечает. – С досадой протянула экономка.
– П-постойт!.. – загудела Гризельда, пока ее не оттолкнула Жоржин, взвалившись вперед и рухнув на колени.
Оказывается, она вполне себе могла наклоняться, подумала Мари, снисходительно поведя бровью.
– Мне нужно это место, прошу вас! – завопила она.
Мари только покачала головой. Хоть Грегуар никогда не позволял ей такое своеволье, но за четыре года она ни разу не уволила ни единой прислуги. Ей кажется, что он даже ничего не заметит. Пора преображать этот старый дворец в достойное место.
Несколько раз ударив палкой по полу, экономка будто бы провозглашала приговор павшей.
– С глаз моих за вещами. Чтоб к обеду я вас не видела.
И Мари ушла. Ушла дальше осматривать порядок и подчиненных, половину из которых давно следовало бы закрыть в темнице.
Скоро наступит обед.
IIК часу дня жара только усилилась, но работа в старом дворце кипела. Сюда перебиралась вся прислуга главной палаты лишь для того, чтобы не потревожить покой королевской семьи. Здесь слышна вся грязь и отборная брань с кухни, с комнат и с улицы. Казалось, что было тяжело дышать лишь из-за их смердящих слов, а не многовековой пыли. И только довольную прачку перенесли ближе к конюшням, чтобы трель воды сильно не нервировала королеву Элизу.
И старую аллею, раскинувшуюся под несовременным поместьем, тоже лениво приводили в порядок.
– Кстати! – воскликнула юная горничная, приложив ко рту палец.
Две ее подружки, имен которых она даже не вспомнит, с редким нежеланием развернулись к ней, уткнувшись в черенок подбородком. И только одна Дениз, подметавшая песчаные выбоины аллеи, не поинтересовалась сборищем в нескольких шагах от нее. Болтливая Поль даже причмокнула губами и прокашлялась перед рассказом, но та и носом не повела. Вот дурнушка, думается ей.
Нахмурившись, глупышка задала вопрос:
– Какой срок у королевы Элизы?
А Поль совершенно не боялась, что за кляузничество, даже безобидное, ее могут повесить. Она только в надежде поглядывала в сторону Дениз, которая продолжала корпеть над каменной кладкой.
Те, к кому обратилась веснушчатая Поль, с откровенным непониманием почесали затылок.
– А нам-то почем знать? – возмутилась толстушка, более высокая копия Гризельды.
Азиатка лишь зевнула, совершенно не предвещая, что разговор выйдет занятным.
– Но живот огромен! – изумилась дурнушка, чуть не закричав. – Думаю, носит целую двойню! – и для большего эффекта вскинула два пальца с поломанными длинными ногтями.
– Смеешься? – кареглазая азиатка брезгливо сморщила рожу и, сняв с себя косынку, ударила ею по руке Поль.
– Да говорю вам! – завыла она, – тетка моя с таким же пузом ходила и двойню родила!
– Живую?! – удивленно воскликнули женщины, подавшись ближе к служанке.
Дениз как раз проходила мимо, из-за чего Поль открыто засуетилась, вот только, столкнувшись с гневным взглядом темноволосой девушки, она быстро отвела свой в сторону. Когда Поль вновь решила посмотреть на Дениз, то той и след простыл.
– К-конечно, живую!.. м… в-вот, – она взволнованно закопошилась под одеждой, сильнее оттянув и без того открытое платье. Нащупав цепочку, она вынула наружу проржавевший медальон, ослепивший ей карие глаза, и раскрыла его одним нажатием пальца. – Это вот в центре моя тетка, а это вот ее дочурки.
На них смотрела уставшая молодая женщина с вытянутым лицом как у туповатой собаки, напоминавшее чем-то отдаленно яйцо. В ее руках, прямо на уровне пышной груди, лежали необычайной красоты младенцы, брезгливо отодвинутые дальше от матери. Сухое семейное фото, вот только, откуда оно у простой горничной Поль?..
Обе служанки, изумленно ахнув, потянулись к медальону, намереваясь схватить его и рассмотреть поближе, но Поль быстро захлопнула диковинку, спрятав под одеждой.
– Чудеса какие!
– Вот-вот! – довольно протянула Поль, с хрустом выпрямившись.
– Только вот, – задумчиво проговорила азиатка, – откуда у такой, как ты, быть такой диковинке в руках?
До Поль не сразу дошла суть вопроса. Она насупилась, а после вмешалась копия Гризельды, усевшись на траву.
– Правда. – Устало добавила она. – Ты ведь не аристократка, насколько мне известно. – А после она брезгливо стрельнула взглядом в Дениз, которая взяла в руки жесткую щетку и налила ведро воды.
– А, – она почесала затылок, – это… как их звали-то… м…
– Ладно, – махнула азиатка, – проехали.
Усевшись по-турецки на газоне, который был прохладен от откинутой тени здания, она накрутила по панталоны ситцевое тряпье, оглядывая нездоровый оттенок кожи. На левой ноге красовалась кружевная бандалетка, доставшаяся ей трофеем от прошлого места работы. В ней же запрятаны игральные карты, рубашка которых вся исполосована.
Запустив пальчик под кружево, она вынула наружу целую колоду, виртуозно покрутив в руках. Гризельда младшая заинтересовано устроилась рядом, с львиной долей наслаждения ощутив прохладу на влажных висках, а после она похлопала рядом с собой, призывая Поль оставить скучную работу и отдохнуть. Та даже не стала думать, тут же выпустив из рук черенок метелки. И вот теперь все трое наслаждались тенью, занимаясь любимым делом: Гризельда младшая пыталась обыграть азиатку, когда Поль, пустив по подбородку слюни, засопела, щекой прилипнув к пыльной траве. От такого вида Дениз не удержалась от усмешки, проходя мимо с ведром воды и грубой щеткой в руках.