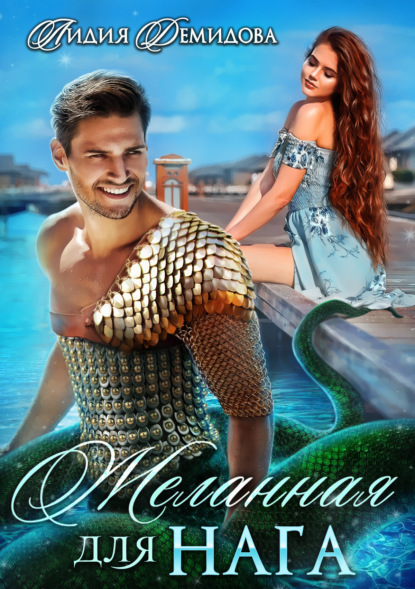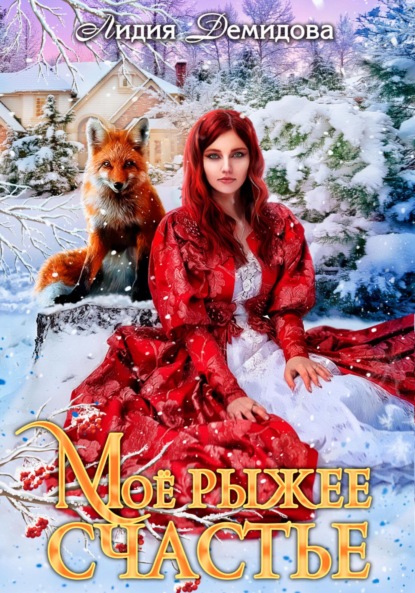Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона

- -
- 100%
- +

Афиша фильма «Рамазан» (1933) Наби Ганиева
Сулейман Ходжаев в ленте «Перед рассветом», снятой в 1933-м, обращается к тому же дореволюционному материалу, что и Моисей Левин в «Амангельды» шесть лет спустя: восстанию против царской мобилизации в Джизаке в 1916-м. Реакция власти оказалась непредсказуемой – материал не оценили, Ходжаева под усиленным конвоем забрали из его дома в Ташкенте сразу в суд, а фильм так и не вышел на экраны. Работы Наби Ганиева «перестанут внушать доверие» позже, в 1935 году, и ему «повезет» чуть больше – режиссера лишь отстранят от работы в кино до середины 1940-х. В 1937-м, еще до выхода «Амангельды», репрессируют одного из сценаристов картины, Бейимбета Майлина, – через год его расстреляют. Льву Кулешову не позволят доснять в Таджикской ССР драму «Дохунда» («Нищий», 1936) о судьбе бесправного батрака по роману Садриддина Айни в сценарной обработке Осипа Брика.

Кадры из фильма Дзиги Вертова «Тебе, фронт» (1942)
Так, несмотря на рост кинопроизводства и идеологически «правильные» нарративы, обстановка в едва зародившейся индустрии начнет накаляться так же, как и в стране в целом. Авторские интерпретации будут уже не просто критиковать, за них будут карать, что приведет в конце 1930-х к насильственному прерыванию национального кинопроцесса. Иногда – в буквальном смысле: в 1940 году производство художественных картин на Душанбинской киностудии директивно прекращается и не возобновится до 1955 года. Из этого правила будет сделано всего два исключения: «Сын Таджикистана» (1942) Василия Пронина о фронтовой дружбе таджикского солдата Гафиза с русским солдатом Иваном и совершенно противоположный по духу «Таджикский киноконцерт» (1943) Климентия Минца, исчерпывающе описываемый своим названием17. Обе ленты будут сняты в сотрудничестве с «Союздетфильмом», эвакуированным в Сталинабад (Душанбе) в 1941 году.
С началом Великой Отечественной войны в Центральную Азию эвакуируют не только эту, но и все остальные студии Москвы, Ленинграда, Минска, Одессы. Самым большим пристанищем советского кинопроизводства станет Алма-Ата с ее Центральной объединенной киностудией (ЦОКС), где в 1941–1944 годах снимается около 80 % всех союзных художественных картин18. Советская исследовательница кино Нея Зоркая с двойственным чувством вспоминает этот переезд и последующие события в мемуарах, опубликованных в «Искусстве кино». С одной стороны, «Эйзенштейн, Пудовкин, братья Васильевы, Пырьев, Дзига Вертов, Барнет, Роом, Козинцев, Трауберг, Рошаль, Шуб – великая режиссура; Жаров, Жаков, Жеймо, Черкасов, Караваева – великие киноактеры; писатели Зощенко, Погодин, Михалков, композитор Прокофьев – всех не перечислить. Вскоре сюда же, к отрогам Алатау, прибудет еще труппа Московского театра имени Моссовета во главе с Завадским, через год, в конце 1942-го, – ВГИК. По количеству пышных имен, по напору таланта и интеллекта, обрушившихся на город, Алма-Ата начала 1940-х могла бы сравниться, наверное, только с Одессой или Ялтой послеоктябрьских лет, где надеялся спастись от революции цвет русской культуры»19.
Но с другой стороны: «В жизнедеятельности эвакуированных студий проявились преимущества и пороки системы государственного кинематографа в его тоталитарном варианте. Разместить производство, обустроить людей, продолжить съемки картин, запущенных перед войной, и экстренно начать выпуск новых можно было лишь централизованно и к тому же с большими государственными вложениями (правда, кино тогда еще продолжало считаться прибыльным “товаром 2”, вслед за водкой – “товаром 1”). Одновременно с этим существовали идеологический гнет, доходящий до абсурда, патернализм, сбивчивые приказы из Москвы, бюрократические требования постоянной отчетности. Особенно удивляет сегодня обильная алма-атинская “полка”»20.

Здание Центральной объединенной киностудии (ЦОКС)
Нетрудно догадаться, что о ЦОКС можно написать очень много. Публикации, в которых это сделано, приводит та же Нея Зоркая: воспоминания директора киностудии Михаила Тихонова; «Воспоминания. Дневники. Письма» Бориса Бабочкина; автобиография «Моя любовь» Лидии Смирновой, письма Михаила Названова Ольге Викландт со съемок «Ивана Грозного» Эйзенштейна, «Переписка» Григория Козинцева и другие. Временно переехавшие из западной части СССР кинематографисты, несмотря на непростые условия, сумели и продолжить работу, и передать свои знания на практике и в теории начинающим авторам – причем не только за счет также перевезенного сюда ВГИКа. Но мы сосредоточимся на работе эвакуированных кинематографистов с местным контекстом.
Григорий Рошаль и Вера Строева в 1942 году экранизировали казахскую народную легенду о великане Тологае, пожертвовавшем собой ради народа. В прокат картина вышла с четырьмя разными названиями: «Песнь о великане», «Батыры степей», «Казахи воюют», «Казахские новеллы». Сам миф при этом встраивался в сюжет о фронтовой жизни и уничтожении дота. На привале после боя солдат Курген рассказывает сослуживцам о легендарном подвиге, в котором батыр Тологай пожертвовал жизнью ради народа, – и позже сам повторяет этот архетипический акт в духе уже советской военной мифологии: закрывая телом долговременную огневую точку.

Репрезентация ЦОКС в фильме «Последняя милая Болгария» (2021) Алексея Федорченко
Рошаль параллельно руководил казахской актерской группой и обучал будущих известных актеров и актрис Камаси и Амину Умурзаковых, Замзагуль Шарипову, Кененбая Кожабекова, а также режиссеров Абдуллу Карсакбаева, Куата Абусеитова, Даригу Тналину и многих других. Местные исполнители играли в короткометражных фильмах, которые спешно снимались разными авторами для серии «Боевые киносборники»: считается, что их производили до тех пор, пока не появились первые полнометражные агитационные фильмы о войне.
Тем временем в Узбекской ССР снимались другие киносборники – музыкальные: «Узбекский киноконцерт» (1941), «Подарок Родины» (1943), «Концерт пяти республик» (1944). Над ними, в отличие от казахстанских, работали местные режиссеры Камиль Ярматов, Юлдаш Агзамов, Загид Сабитов. Но это не единственное отличие кинопроцесса в Казахстане от других республик: хотя количество фильмов и сокращается, кинематографисты продолжают экранизировать национальные сюжеты. В 1943 году Яков Протазанов преимущественно с российскими актерами снимает комедию «Насреддин в Бухаре» о герое народных анекдотов Ходже Насреддине. В качестве второго режиссера ему помогает отстраненный до этого от кинопроизводства Наби Ганиев. Естественно, экранизация вряд ли появилась бы без романа Леонида Соловьёва «Возмутитель спокойствия», адаптировавшего народную историю для русскоязычного (а позже, в переводах, и европейского) читателя в 1940 году. Однако свою роль сыграло и явное ослабление карательной политики в отношении кино.

Кадр из фильма «Песнь о великане» (1942)
В те же годы Иосиф Хейфиц и Александр Зархи выпускают советско-монгольский фильм «Его зовут Сухэ-Батор» (1942) об основателе Монгольской народно-революционной партии – то есть вновь на этническую тему. А под конец войны первый секретарь ЦК КП(б) Узбекистана Усман Юсупов, до этого активно инициировавший репрессии, внезапно «прощает» Наби Ганиева и дает ему поставить сразу две картины. Романтичная лента «Тахир и Зухра», вышедшая в 1945 году, – переложение легенды XV века о любви простого воина к ханской дочери. Советская критика воспринимает фильм положительно и хвалит его (то ли искренне, то ли в попытке защитить от цензуры) за подчеркнутый классовый конфликт и большое внимание к социальным проблемам средневекового Востока21. «Похождения Насреддина» же, вышедшие еще год спустя, – прямое продолжение картины уже умершего к тому времени Протазанова (даже сценарий написал все тот же Леонид Соловьёв), но на этот раз с узбекскими актерами. Обе картины в итоге стали хрестоматийными и в каком-то смысле уже в 1940-е развернули узбекистанский кинематограф в сторону поэтичности, лиризма и неторопливости (в противовес резкому, энергичному, непримиримому агитационному тону лент 1920–30-х годов).

Кадр из фильма «Его зовут Сухэ-Батор» (1942)
Местные кадры работали и в Ашхабаде с эвакуированной сюда Киевской киностудией. Помимо картин с исключительно украинской основой, в годы войны здесь выпустили киноновеллу «Стебельков в небесах» (1941), «Боевой киносборник № 9» (1942), «Люди Красного Креста» (1942) и фильм-концерт «Волшебный кристалл» (1945) с фрагментами первых туркменских опер «Абадан» и «Зохре и Тахир», а также балета «Алдар Косе» и других номеров. Все эти ленты не прошли проверку временем, зато после войны украинские актеры периодически снимались в Туркменистане, а сам «Туркменфильм» пользовался павильонами и цехами Киностудии имени А. Довженко.
Казахстанский ЦОКС расформировывают уже в 1944-м, но основные цеха и все оборудование остаются в наследство Алма-Атинской киностудии, которая в январе 1944-го получает еще и приписку «художественных и хроникальных фильмов». Естественно, не просто так – к этому моменту в городе оказывается достаточно коренных обученных специалистов для создания собственных картин. Но, как и в других четырех республиках, полноценно индустрия восстановится здесь только в оттепель – сразу после войны средств на кино оказывается совсем немного, и по всей стране начинается период «малокартинья». И если для узбекского кино это будет означать в лучшем случае одну-две картины в год22, то на остальных национальных студиях до середины 1950-х наступит практически полное затишье. Как мы помним, в Таджикистане все еще действует запрет на съемки художественных лент. Первый послевоенный для Казахской ССР фильм «Золотой рог» Ефима Арона появится в 1948-м, а первую, снятую местным режиссером Шакеном Аймановым ленту «Поэма о любви» выпустят только в 1954 году. Картина «Салтанат» Василия Пронина, с которой, «по сути, начался киргизский художественный кинематограф»23, выйдет еще годом позже.

Кадр из фильма «Поэма о любви» (1954) Шакена Айманова

Афиша фильма «Поэма о любви». Художник А. Лемещенко
В Туркменистане до 1950-х успеют снять «Далекую невесту» (1948) Евгения Иванова-Баркова – комедию положений, которую в прокате посмотрят почти 30 миллионов зрителей24. В ней донской казак Захар Гарбуз после демобилизации отправляется к своей невесте Гюзель в Туркменистан, но, несколько раз запутавшись по пути, оказывается женихом другой туркменки и принимает участие в соревнованиях между колхозами. Фильм в целом полюбили и зрители, и критики – его номинируют на главную премию фестиваля в Карловых Варах, а создателей наградят Сталинской премией. Критически к нему отнесутся, пожалуй, только киноведы Ростислав Юренев («Есть несколько удачных комедийных сценок, вызывающих дружелюбную улыбку по поводу чадолюбия туркменов, их несколько витиеватой вежливости. Есть и хорошо снятые, динамичные эпизоды, например укрощение норовистого коня. Но при всем этом в комедии царит слащавый дух, ее персонажи высказывают прописные истины, сюжет движется благодаря внешним приемам, конфликта, по существу, нет»25) и Ханжара Абул-Касымова («Фильм, за исключением некоторых удачных сцен, оказался лишенным и подлинного национального колорита»26). Другие будут хвалить игру туркменских актеров, живой юмор, природу, музыку и общий позитивный настрой ленты27. В фильмах позднесталинской эпохи последнее ценилось особенно высоко: достаточно вспомнить несколько картин тех лет – «Весну» (1947) Григория Александрова, «Новый дом» (1947) Владимира Корша-Саблина, «Кубанских казаков» (1949) Ивана Пырьева.

Афиша. Художники Алексей Зеленский и Игорь Зеленский. Музей кино

Кадр из фильма «Далекая невеста» (1948)
Оптимистичная «Далекая невеста» вышла летом, а уже в октябре 1948-го, в ночь с 5-го на 6-е число, в Ашхабаде произошло разрушительное землетрясение, которое практически уничтожило город и унесло жизни, по разным оценкам, от трети до половины его жителей.
70 лет спустя сейсмолог Батыр Каррыев в своей книге о катастрофе приведет историю о документалисте Романе Кармене, который вылетел в город по распоряжению Сталина в первые дни после трагедии. Там он снял руины, лежащие прямо на улицах тела и подавленных выживших – получасовая хроника в итоге якобы была засекречена и остается таковой до сих пор28. Неизвестно, правда это или нет, – но в Ашхабаде, естественно, еще долго было не до кино.

Последствия землетрясения в Ашхабаде 6 октября 1948 года. Станислав Корытников / РИА Новости
Единственную студию Туркменской ССР начнут восстанавливать только в 1953-м, выпуская после этого по фильму в год: «Сын пастуха» (1954) Рафаила Перельштейна по пьесе туркменских драматургов Гусейна Мухтарова и Кары Сейтлиева, «Хитрость старого Ашира» (1955) того же Перельштейна и Хангельды Агаханова, «Честь семьи» (1956) Ивана Мутанова, «Особое поручение» (1957) Евгения Иванова-Баркова и пришедшего в режиссеры из актеров Алты Карлиева, «Первый экзамен» (1958) Хангельды Агаханова и Павла Сырова, «Айна» (1959) Алты Карлиева и Владимира Иванова, «Десять шагов к Востоку» (1960) Агаханова и Виктора Зака. В 1960-м обедневшую производственную базу обновят, запустив новые павильоны, зал звукозаписи, лабораторию по обработке пленки и чуть позже – творческо-производственный корпус29. Количество фильмов увеличится вдвое: в оттепель и позднесоветское время, среди прочих, начнут снимать картины первые национальные выпускники ВГИКа – обычная история для всех пяти центральноазиатских республик.

Актер и режиссер Алты Карлиев

Кадр из фильма «Сын пастуха» (1954)
Тем не менее тематически новые авторы продолжат повторять своих предшественников, снимая истории о противостоянии басмачам, трудовых подвигах прошлого на строительстве каналов в бесплодных землях, детском летнем отдыхе и подвигах солдат в двух советских войнах. Дальше всего от этих нарративов отойдут (однако все еще не приблизившись к туркменской современности) ленты «Состязание» (1963), «Невестка» (1971) и «Тайны Мукама» (1973). Первый фильм основан на реальном событии: в XIX веке музыкант Шукур отправляется освобождать брата из плена персидского хана, взяв с собой только струнный дутар. Прибыв на место, он состязается с придворным инструменталистом Гуламом и, естественно, побеждает.

Кадр со съемок туркменского фильма «Тайны Мукама» (1954)
«Состязание» станет дипломной работой Булата Мансурова, студента мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. А заодно – полнометражным дебютом учившегося у Бориса Волчека начинающего оператора Ходжакули Нарлиева. Композитор фильма – еще один выпускник столичного вуза (на этот раз Московской консерватории) Нуры Халмамедов. Главных героев играют непрофессионалы: на роль туркменского певца режиссер взял молодого кандидата физико-математических наук Амана Хандурдыева, а роль иранца исполнил бывший батрак, председатель сельсовета и милиционер Ходжан Овезгеленов.

Кадр из фильма «Состязание» (1963). Режиссер Булат Мансуров. Киностудия «Туркменфильм»
На экране появляется и брат Ходжакули Нарлиева – Ходжадурды, который позже станет известным туркменским и российским кинематографистом. Пример «Состязания» отлично показывает, что местное кинопроизводство, по сути, заново создавали именно авторы, пришедшие в центральноазиатское кино в оттепель. И они же формировали его до самого начала перестройки. Уже упомянутую драму «Невестка» о тяжелом переживании гибели мужа на войне снимет именно Ходжакули Нарлиев. А еще один далеко не глупый музыкальный фильм «Тайны Мукама» о первой в Туркмении женщине-бахши (то есть народной исполнительнице) окажется кульминацией для Алты Карлиева, также начавшего снимать, несмотря на долгую кинематографическую и театральную карьеру, только в конце 1950-х. К слову, вопреки показательной эмансипации женщин на послевоенном туркменском экране ни одной женщины-режиссера в республике так и не появится.

Кадр из фильма «Невестка» (1971). Режиссер Ходжакули Нарлиев. В роли Огулькейик – актриса Майя Аймедова, в роли Мурада – Ходжаберды Нарлиев
Истории казахстанского и кыргызстанского кино в оттепель окажутся схожи. Поиски национального киноязыка приведут местных шести- и семидесятников – Шакена Айманова, Абдуллу Карсакбаева, поэта и сценариста Олжаса Сулейменова из Казахской ССР и Мелиса Убукеева, Толомуша Океева, Геннадия Базарова, Болотбека Шамшиева из Киргизской ССР – к жанровым картинам на основе местной прозы. Причем жанр, будь то истерн, детский фильм или что-то другое, окажется не самоцелью, а способом воплотить режиссерские и операторские эксперименты. Кино в двух республиках отличится особой драматичностью, нестандартными темами и крепкими сюжетами. Вопреки этому (а может быть, и благодаря) местом действия в них в основном так и останется аул или колхоз, но не город. Судьбы казахской и кыргызской кинематографии разойдутся лишь в конце 1970-х: если на «Казахфильме» эпоха застоя обернется упрощенными сюжетами и незамысловатой режиссурой, то на «Кыргызфильме», напротив, повысят ставки, снимая ленты на актуальные социальные, экологические и философские темы, – часть из них будет поставлена по прозе Чингиза Айтматова.

Фото со съемок фильма «Белый пароход» (1975). В главной роли 7-летний Нургазы Сыдыгалиев. Справа – режиссер Болотбек Шамшиев. РИА Новости


Кадры из фильма «Белый пароход» (1975)
Узбекистанские режиссеры тем временем тоже продолжат снимать жанр – но преимущественно романтический и комедийный. Дальше других пойдет Эльёр Ишмухамедов, выкрутивший оттепельную поэтичность до предела. Его «Нежность» (1966), «Влюбленные» (1969), «Встречи и расставания» (1973), «Птицы наших надежд» (1976) – гимны молодости и первой любви.

Кадры из фильма «Влюбленные» (1969) Эльёра Ишмухамедова

Кадры из фильма «Влюбленные» (1969) Эльёра Ишмухамедова

Кадры из фильма «Влюбленные» (1969) Эльёра Ишмухамедова

Афиша фильма «Нежность» (1966)

Кадры из фильма «Нежность» (1966)
Самой заметной картиной послевоенного «Узбекфильма» станет «Ташкент – город хлебный» (1968) Шухрата Аббасова, снятый по одноименной повести Александра Неверова, адаптированной Андреем Кончаловским и Андреем Тарковским. В ней крестьянский мальчик из начала 1920-х Миша Додонов отправляется в Ташкент, чтобы спасти от голода свою семью.

Афиша фильма «Ташкент – город хлебный». Художник-плакатист Юрий Царёв

Узбекский кинорежиссер Эльёр Ишмухамедов. Чертов / РИА Новости

Кадр из фильма «Ташкент – город хлебный» (1968)
Под конец советской эпохи в Узбекской и Таджикской ССР начинают появляться первые совместные работы с иностранными авторами – к примеру, «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (1980) Латифа Файзиева и Умеша Мехра, копродукция с Индией, или «Хромой дервиш» (1986) Валерия Ахадова и Йожефа Киша, снятый совместно с Венгрией и Турцией. Однако на «Таджикфильме» снимают все больше телевизионных картин, отличающихся слабой режиссурой, драматургией и актерской игрой. Национальный прокат в это время пополняется кинопритчами и историческими драмами. А к концу 1980-х студия приходит с устаревшими технологиями и практически полным отсутствием молодых кадров.

Афиша фильма «Хромой дервиш» (1986)

Кадр из фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (1980)
Центральная Азия стала раем и адом для кинематографистов еще в ранние советские годы. Революционный порыв, подкрепленный новым способом саморепрезентации в искусстве, то сменялся социальными (репрессии) и природными (Ашхабадское землетрясение) катаклизмами, то обретал новое дыхание в долгую среднеазиатскую оттепель и – в случае с узбекским кино – даже в войну. Но к концу советской эпохи национальные картины уже давно не воспринимались как нечто локальное, и дело не только в государственных премиях и интересе зрителя к экзотичному Востоку. Напротив, кино становилось способом узнавать себя и искать новые формы и формулы, отличные от тех, что проецировались и на общесоветский, и на европейский, и на любой другой экран. В перестройку эти формулы обретут новый вид, а после – и новые обстоятельства, в которых на сформировавшейся за полвека платформе вырастет кинематограф уже совсем других, постсоветских республик.

Логотип «Кыргызфильма»

Старый логотип «Казахфильма»

Логотип «Узбекфильма» времен оттепели

Советский значок к 50-летию «Туркменфильма»

Первый логотип «Таджикфильма»

Логотип всесоюзного кинотреста «Востоккино» (1928)
1985–1991
От советского к постсоветскому
К концу 80-х годов индустрия кино в Центральной Азии практически стагнировала. «Таджикфильм», по сути, был загнан в рамки детских и документальных фильмов, а «Туркменфильм» выпускал в лучшем случае два фильма в год. «Казахфильм» и «Узбекфильм», пережившие подъем в 1960–1970-е годы за счет новых методов и молодых кадров, сильно сдали как в художественном, так и в производственном плане – в том числе из-за цензуры. Общий стиль центральноазиатских картин отличался мало – на фоне других четырех студий выгодно выделялся разве что «Кыргызфильм», режиссеры которого продолжали снимать актуальные ленты и не боялись экспериментировать с жанрами, насколько это было возможным. Эта глава о том, как перестройка изменила все. И не всегда в лучшую сторону.
«Құлагер» Булата Мансурова: как кино начали «снимать с полки»
Несмотря на то что условная оттепель в нескольких центральноазиатских республиках продлилась чуть дольше, чем в остальном СССР, цензура в это время никуда не исчезала, а только чуть ослабла – в регионе продолжали выпускать аккуратные фильмы, не заходящие на территорию реальной политики или социальных проблем. Но в определенный момент оказалась недопустима не только современность, но и редкие обращения к национальному прошлому. В Казахстане это произошло раньше всего. Еще в 1972 году на экраны без особых препонов вышла двухсерийная картина «Кыз-Жибек» Султана-Ахмета Ходжикова. Сюжет ленты строился вокруг народной поэмы о любви воина Толегена из рода Жагалбайлы и девушки Жибек из рода Шекты на фоне феодальных конфликтов. По данным «Казахфильма», в СССР картину посмотрели почти 8 миллионов человек. На казахстанском телевидении он транслируется до сих пор – в частности, картину любят показывать в дни праздника Наурыз. Снятому тогда же «Құлагер» Булата Мансурова повезло гораздо меньше – он тут же отправился «на полку» и был официально выпущен только в 1987-м. То же случилось с картинами «Степные раскаты» Мажита Бегалина (снят в 1974-м, впервые показан только по телевидению в 2002-м) о событиях Гражданской войны и «Там, где горы белые» Асхата Ашрапова и Виктора Пусурманова (снят в 1973-м, выпущен в 1991-м). История этого запрета максимально абсурдна: фильм рассказывал о верблюдице, которая смотрела на горы и убежала к ним в финале со своим верблюжонком. Секретарь ЦК КП Казахстана по идеологии Саттар Имашев побоялся, что немцы и евреи, посмотрев фильм, проведут аналогию с собственным положением – тогда одни с трудом эмигрировали в Германию, а другие – в Израиль.