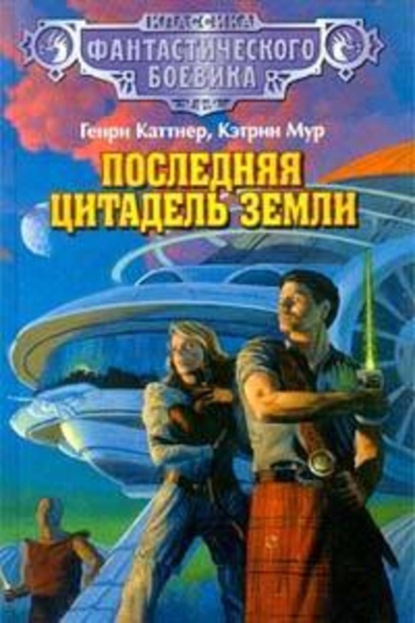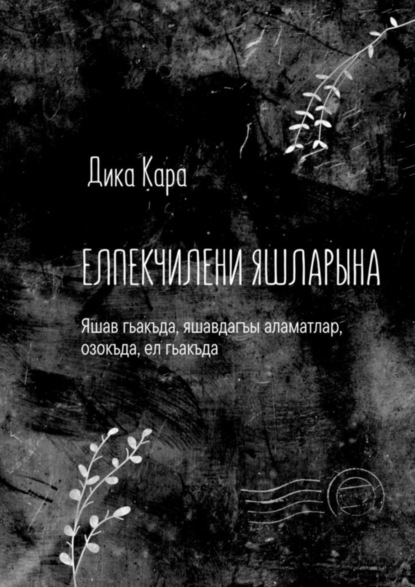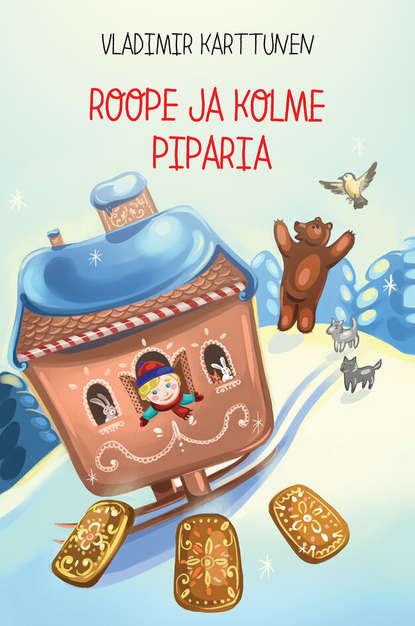Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона

- -
- 100%
- +
Такая концентрация национальных кадров может вызвать удивление, но в конце 1980-х она возникла не просто так: во многом ее «продюсерами» стали местные интеллектуалы – в частности, председатель республиканского Госкино до 1984 года поэт Олжас Сулейменов, сменивший его на этом посту Канат Саудабаев и главный редактор «Казахфильма» Мурат Ауэзов, объявившие конкурс короткометражных фильмов для всех, включая людей без опыта. Авторов лучших работ отправили во ВГИК, где те обучались, например, у оператора Павла Лебешева, сценариста и режиссера Сергея Бодрова – старшего и театрального режиссера Анатолия Васильева. Целиком и подробнее других эту историю рассказала кинокритик Гульнара Абикеева в своей относительно недавней книге «Казахская новая волна» и в чуть более старой Cinema in Central Asia. Rewriting Cultural Histories в соавторстве с исследователями Биргит Боймерс и Майклом Роуландом. Еще больше деталей и подробностей приводит в своей книге Dramaticon Рашид Нугманов12. Для всех интересующихся современным центральноазиатским кино эти работы практически обязательны к прочтению. Мы же сосредоточимся на самом феномене и фильмах, созданных его участниками.

Название «Казахская новая волна» придумал Рашид Нугманов, создавая плакат на золоченой бумаге к показам студентов Соловьёва на ММКФ в 1989 году. Плакат не сохранился, а вот пригласительная листовка осталась. Фото предоставлено Рашидом Нугмановым
Как мы уже выяснили, настоящее большое кинопроизводство к 1980-м из всех центральноазиатских республик существовало только на «Кыргызфильме» – налаженное настолько хорошо, что только мультипликационных картин с 1977 по 1993 год там было снято тридцать две. Киностудия Казахской ССР – особенно после запрета сразу нескольких картин в начале 1970-х – сосредоточилась на неброских жанровых фильмах со средним качеством постановки и блеклыми конфликтами. Курс, собранный общими усилиями Сулейменова, Ауэзова и Соловьёва, как раз должен был решить эту проблему, дав студии новые имена. И они проявились практически сразу: не успев снять короткие метры для задуманного мастером к выпуску из института альманаха, молодые режиссеры уже начали получать первые полнометражные проекты. Для Нугманова это была «Игла», для Карпыкова – «Влюбленная рыбка» о нескольких днях из жизни молодого героя Жакена в Алма-Ате, для Апрымова – «Конечная остановка» о медленном разложении советского аула.
В 1990 году Абай Карпыков, давая интервью писательнице Алле Гербер, упомянул, что современные ему «казахи поделены как бы на две нации: городскую и сельскую»13. В том разговоре он уточнял, что имеет в виду разделение не только по укладу жизни, но и по языку: казахскому или русскому. Спустя много лет эта граница никуда не делась, но стала куда более видимой и ясной по многим причинам – в том числе благодаря сохранившимся фильмам режиссеров «казахской новой волны». Уже на рубеже советской и постсоветской действительности они создали даже не один, а, по сути, два пересекающихся феномена национального кино: ленты, по-новому повествующие о колхозе или ауле, и ленты, по-новому рассказывающие о городе.

Режиссер Сергей Соловьёв. 1980 год. Пашвыкин / РИА Новости
Первые – к примеру, та же «Конечная остановка» (1989) Серика Апрымова, – в отличие от привычных до этого на экране трудовых соревнований, изображали практически постапокалиптический мир опустевших территорий со спившимся или как минимум страдающим от безделья населением. Посреди ада, возникшего на месте социалистического рая, обязательно оказывались молодые герои, неспособные найти себя в безнадеге той самой «конечной остановки» старого желтого пазика. Тоскливая реальность заброшенной деревни толкала одних персонажей в город, других – как в «Голубином звонаре» (1994) Амира Каракулова – в тюрьму. Эстетике «нововолновцев» вторили и режиссеры, начавшие снимать до 1980-х: в 1994-м на экраны вышло «Жизнеописание юного аккордеониста» Сатыбалды Нарымбетова, в котором изображался суровый послевоенный шахтерский поселок в Южном Казахстане, – но в этом поселке середины века невозможно было не угадать рифмы с окружающей постперестроечной действительностью.

Поэт Олжас Сулейменов. Иосиф Будневич / РИА Новости

Канат Саудабаев. 2009 год. Эдуард Песов / РИА Новости
«Городское» кино – «Влюбленная рыбка» (1989) Абая Карпыкова, «Кайрат» (1991) и «Кардиограмма» (1995) Дарежана Омирбаева, – как ни странно, тоже чаще обращалось не к взгляду «снаружи» (приехавший из Москвы Моро из прошлого раздела), а к взгляду «изнутри» республики: из того самого аула, откуда уезжали герои «сельских» фильмов. «Попаданцы» в мегаполис редко находили себя здесь, практически безучастно плывя по течению, неспособные что-либо изменить. Разница в проживании персонажами своего аутсайдерства состояла лишь в том, кому они окажутся предоставлены в условной Алма-Ате: самим себе или другим людям. И то и другое было опасно, но тем не менее не оказывалось фатальным. Дарежан Омирбаев, по собственному признанию, описывал в едва сводящих концы с концами героях самого себя. Абай Карпыков, очевидно, больше полагался на воображение: город в его «Влюбленной рыбке» совсем не похож на город из советского казахстанского кино и наводнен поющими иностранцами и импульсивными, нестабильными людьми.

Кадр из фильма «Конечная остановка» (1989) Серика Апрымова
Исследователь Петер Роллберг в вышедшей в 2021 году книге The Cinema of Soviet Kazakhstan пишет: «Герои фильма освободились от багажа прошлого и рвутся в будущее слепо и уверенно: так, музыкант и его африканский друг нечаянно разбивают старую советскую машину “Победа”, но их сожаления об утрате длятся не более минуты. Персонажи беспечно и почти психопатично оптимистичны»14, – и при этом: «“Влюбленная рыбка” рисует Казахстан как страну, лишившуюся порядка. Исчезновение правил заставляет людей постоянно импровизировать. Насилие, в том числе вооруженное, и изнасилование становятся нормой, привычным явлением, которое никто не воспринимает всерьез. Карпыков в советских условиях снял постсоветское кино, которое иронично и бесстрастно демонстрирует снисходительное отношение режиссера к казахстанско-советским реалиям без привычного для перестроечных дискурсов того времени морализаторства»15. Помните персонажей, бегущих в город из родного аула? В финале «Влюбленной рыбки» ее герой Жакен решает покинуть уже Алма-Ату и вернуться домой.

Кадр из фильма «Разлучница» (1991) режиссера Амира Каракулова
Помимо конфликта городского и сельского перестроечных взглядов на мир, для молодых режиссеров стало важным зафиксировать свое представление о прошлом и будущем. Из всех выпускников Соловьёва ближе других к истории оказался Ардак Амиркулов, продолживший в картинах «Гибель Отрара» (1991) и «Абай» (1995) заданную Булатом Мансуровым в «Құлагере» традицию художественного переосмысления «реального прошлого» – с историческими фигурами и поэтически обыгранной фактологией. Будущее же, на рубеже 1980–1990-х выглядевшее еще более пессимистичным, чем настоящее (вспомним апокалиптический «Дикий Восток» Нугманова), начало видеться режиссерам «справедливым» только к концу первого постсоветского десятилетия. Намеки на это можно увидеть у того же Абая Карпыкова в лентах «Тот, кто нежнее» (1996), где условные «молодые», «красивые» и «добрые» все же побеждают бандитов в погоне за фамильным (читай – национальным) сокровищем, и «Фара» (1999), где к предыдущим победителям добавляются еще и «наивные».
Исследователи в разговорах о «казахской новой волне» часто уделяют много внимания поиску ассоциаций и тегов, которыми можно было бы ее промаркировать: Трюффо, Годар, Бунюэль, итальянский неореализм. Мне этот подход видится удобным для читателя, но не слишком полезным. Во-первых, авторы конца советской эпохи и начала казахстанской независимости, конечно, отчасти опирались на международную классику, увиденную в том числе на фестивалях, – но это точно не было игрой в догонялки. Их взгляд и набор кинематографических формул, которыми они пользовались, определялся окружающим хаосом вместе с сильно ослабшей цензурой и отсутствием средств. Фильмы каждого режиссера дополняли общую тенденцию, но, скорее, производственную и тематическую; тогда как в визуальном плане их картины разнятся настолько, что усмотреть единую эстетику во всех лентах, пожалуй, невозможно.

Режиссер Дарежан Омирбаев. Григорий Сысоев / РИА Новости

Режиссер Абай Карпыков

Режиссер Ардак Амиркулов

Фархад Абдраимов в фильме «Тот, кто нежнее» (1996) режиссера Абая Карпыкова
Во-вторых, кинематографисты «новой волны» впервые в истории Казахстана создали важный прецедент для местной индустрии, вовремя выведя ее на мировой экран. Картины «соловьёвцев» побывали на фестивалях в разных странах – от Сингапура до Швейцарии. Вряд ли этому способствовала отдаленная похожесть авторского почерка любого из них на известных европейских режиссеров середины века; гораздо вероятнее – способность осмыслить собственный опыт жизни с помощью киноязыка и тем самым вписать его в глобальный дискурс. И конечно, способность оказаться достаточно самобытными и сильными, чтобы пережить разруху и безденежье 1990-х: практически все «нововолновцы» до сих пор продолжают снимать кино или преподавать теорию – и темы их работ меняются от десятилетия к десятилетию, влияя на новых авторов, таких как Фархат Шарипов, Адильхан Ержанов и многих других.

Кадры из фильма «1997. Записи Рустема с картинками» (1997) Ардака Амиркулова
«Восхождение на Фудзияму» Болотбека Шамшиева: диагноз для советской системы
Долгий ренессанс кино Киргизской ССР пришелся на более раннее время. Сейчас феномен режиссеров, вернувшихся в республику из ВГИКа в 1960-х, называют «кыргызским чудом». Границы этого термина довольно расплывчаты, но в него точно входят Мелис Убукеев, Толомуш Океев, Геннадий Базаров, Болотбек Шамшиев и ряд других авторов, снявших свои главные ленты в «длинную» центральноазиатскую оттепель. В отличие от казахстанского опыта, здесь в 1980-х не случилось смены поколений и почти все режиссеры продолжали работать в художественном кино и в перестройку.
Тем не менее картины их изменились. Геннадий Базаров, написавший и снявший в 1969 году «Засаду» о борьбе с басмачами в Гражданскую войну, в 1987-м в «Приюте для совершеннолетних» обращается к теме алкоголизма. А чуть позже снимает «Заговор» (1989), в котором вытрезвитель сменяет психиатрическая лечебница, где в результате несправедливости главная героиня оказывается в финале. Образ непобедимого и бравого коммуниста замещается образом побежденного и травмированного заложника обстоятельств времени. При этом некоторые элементы советских картин все же сохраняются и теперь, например обязательная мораль. Особенно это заметно в ленте «Аномалия» (1991), в которой, кстати, снялась Гульшад Омарова (в дальнейшем она станет известна уже как режиссер). Героиня фильма Сайра буквально переживает преображение из неформалки в джинсах в мать в длинном платье и с ребенком на руках. Символично, что этот троп оказывается практически идентичен раннесоветскому перевоплощению «угнетенной женщины Востока» в морально окрепшую большевичку с твердыми жизненными принципами, – только на этот раз без лозунгов, с более традиционным посылом и другими стадиями метаморфозы.

Режиссер Геннадий Базаров. 1987 год. Евгений Петрийчук / ТАСС

Режиссер Болотбек Шамшиев. 1972 год. Фред Гринберг / РИА Новости
Не обходятся без морали и картины Артыкпая Суюндукова. В «Сошлись дороги» (1987) молодой герой Делес становится чабаном, чтобы заработать на дом, но быстро соблазняется нелегальным заработком и, богатея, теряет семью, которую собирался кормить. В «Плакальщице» (1991) талантливая поминальщица – как бы это странно ни звучало – исполняет плач по усопшим[6] так красиво, что даже посторонние люди приходят ее послушать. А в конце фильма она теряет эту способность, не сумев отпустить свое прошлое. Условный жанр «современной притчи» становится, по сути, главным в кино Киргизской ССР на закате 1980-х.
Перестроечная лента «Восхождение на Фудзияму» (1988) стала одиннадцатой и последней режиссерской работой Болотбека Шамшиева. Его самые известные фильмы – «Алые маки Иссык-Куля», «Белый пароход», «Ранние журавли» – вышли еще в 1970-е годы, и в 1980-х режиссер переключился на более жанровое кино: снял криминальную драму «Волчья яма» (1983, фильм посмотрели больше 21 миллиона человек16) и военный байопик об Алие Молдагуловой «Снайперы» (1985). Камерная разговорная драма «Восхождение на Фудзияму» в целом продолжила эту жанровую линию. И хотя была поставлена по пьесе 1973 года (как раз в то же время в Казахской ССР снимался «Құлагер»), оказалась своевременной даже в перестройку.

Фото со съемок фильма «Восхождение на Фудзияму» (1988). Игорь Гневашев / Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва
Сам сюжет в начале 1970-х предложил кыргызский писатель Чингиз Айтматов, а написал пьесу казахский драматург Калтай Мухамеджанов17. Спектакль по ней сразу же поставили в московском «Современнике», а чуть позже – в Вашингтоне, Лондоне, Токио и других городах. Та самая «притчевость» ощущается уже в театральном тексте – из-за обилия монологов с обязательным «разоблачением зла». В кино, конечно, она еще больше усилена.

Кадры из фильма «Восхождение на Фудзияму» (1988) Болотбека Шамшиева
Завязка сюжета проста: старые одноклассники и сослуживцы собираются отметить майские праздники на горе своего детства – Караульной, или «их Фудзияме», – с женами и первой учительницей. Каждый из них за годы стал в чем-то успешен. Только не приглашенного на встречу Сабыра предали фронтовые друзья, и он был отправлен в лагеря по доносу за пацифистскую поэму. А выйдя на свободу, спился и оказался «заживо похоронен» как «неблагонадежный элемент». До конца картины доктор наук, писатель-журналист, агроном, школьный учитель и другие герои пытаются выяснить, кто из мужчин на самом деле подставил Сабыра. И параллельно, осознанно или нет, вскрывают свои грехи – от банального плагиата до воровства и насилия в семье. Заканчивается все трагедией: персонажи напиваются, начинают бросать с горы валуны и случайно вызывают камнепад, под которым погибает их первая учительница.
Выяснение обстоятельств предательства, а затем – как бы в качестве рефрена – деталей смерти любимой учительницы сопровождается бесконечным перекладыванием ответственности друг на друга. В конце концов оба раза виновным оказывается самый слабый – сельский учитель, побитый и брошенный на вершине Караульной горы. Фильм, несмотря на обилие разговоров, тем не менее смотрится не как спектакль, а как фильм (иногда – из-за перестроечных газетных фраз – как плакат, и все же). Оператор Мурат Алиев не раз берет крайне удачные планы, разбавляющие в монтаже переход от портрета к портрету. При этом их достаточно немного, чтобы не сбивать темп повествования: фильм, несмотря на более чем двухчасовую продолжительность, даже сейчас смотрится очень бодро.
В отличие от той же «новой казахской волны», картина Шамшиева внезапно оказывается политической – и ее неслучайно регулярно сравнивают с «Покаянием» Тенгиза Абуладзе. В сцене с огромной головой Сталина в «Восхождении» может даже показаться, будто скульптура передает визуальный привет афише грузинского фильма. Однако на Фудзияме покаяния не происходит: тоталитаризм трактуется режиссером как нечто сидящее глубоко внутри людей, предавших однажды свою молодость. И, несмотря на острую тему, лента вряд ли удивит кого-то сегодня. Пьеса, по которой поставлен фильм, была написана Чингизом Айтматовым и Калтаем Мухамеджановым больше пятидесяти лет назад, поэтому диалоги периодически прерываются монологами-нотациями, которые из нашего времени считываются скорее как моралите. Конфликт старых знакомых закручивается драматично, но обрывается выбивающимся из общего темпоритма финалом, как бы невзначай оставляя нас наедине с одним избитым героем и двумя мертвыми героинями. А перестроечные символы – вроде портретов вождей, под которыми персонажи скрываются от солнца, или гигантской головы Сталина, выбитой в скале, – выглядят теперь, пожалуй, как клюквенный штамп. Однако фильм оказался важным для истории кыргызского кино – и пусть он не открыл его новую главу, зато поставил четкую точку в славной предыдущей. Перестройка изменила смыслы местной киноиндустрии, но не наполнила ее новыми кадрами. Сразу после распада СССР, когда закончилось финансирование, старый кинематограф Кыргызстана практически перестал существовать, тогда как новый еще не успел сформироваться.
Приложение. Отрывок из интервью Аллы Пятибратовой с Болотбеком Шамшиевым, взятое во время премьеры в Оше его нового фильма «Восхождение на Фудзияму»18
По сложившейся традиции режиссеры киностудии «Кыргызфильм» каждую новую картину, прежде чем она пойдет по стране, показывают зрителям республики. «Ранние журавли», «Волчья яма», «Снайперы» – первыми эти фильмы Б. Шамшиева посмотрели фрунзенцы и ошане. И вот один из наших ведущих кинорежиссеров представляет свою новую работу – двухсерийный фильм «Восхождение на Фудзияму». Болотбек Шамшиев и актриса Айтурган Темирова встретились со зрителями Оша и Джалал-Абада. Режиссеру было задано много вопросов, некоторые из них и положены в основу этого интервью.
Б. Шамшиев: Прежде всего немного расскажу о своей новой картине. Театралы хорошо знают пьесу Ч. Айтматова и К. Мухамеджанова «Восхождение на Фудзияму», написанную пятнадцать лет назад для московского театра «Современник». С тех пор пьеса ставилась во многих театрах страны, во Франции, Японии, Финляндии… Лет десять назад я подал заявку на экранизацию «Восхождения…». Мне отказали, выдвинув такой аргумент: «Тема культа личности закрыта. Зачем к этому возвращаться?» Затем отказывали еще несколько раз, приводя всякие «объективные» доводы. Но вот, наконец, наступило время, когда стало возможным фильм снять. Вместе с Айтматовым мы написали сценарий. Три месяца день и ночь проводили на съемочной площадке; нам мешали сильные ветры, грозы, но актеры работали с необыкновенным подъемом и вдохновением. Конечно, сними мы эту картину раньше, она прозвучала бы, наверное, иначе, громче. Но тема наследия сталинизма, эпохи застоя еще долго-долго будет актуальной, и мы должны и будем говорить об этом. Кстати, раньше этот фильм и не вышел бы так быстро. Ни одна из моих картин не была выпущена вовремя. Даже «Ранние журавли»; непонятно, что уж там было такого, что надо было ее держать на полке и заставлять вырезать то одно, то другое. Трудная судьба у «Волчьей ямы». Несколько раз пришлось переписывать сценарий, потому что не так давно в нашей стране «не существовало» наркоманов и наркомании… Потом, когда фильм все-таки был снят, его не хотели выпускать на экраны. И только когда его посмотрело высшее руководство МВД страны, просмотр превратился для меня в пытку: фильм могли «закрыть» из-за любого эпизода – было дано разрешение. Уж и не знаю, чем это объяснить, но первым высказался «за» Юрий Чурбанов. Да, тот самый…
Вопрос: В вашем новом фильме снимаются и казахские актеры. Объясняется ли это тем, что не нашлось киргизских?
Б. Шамшиев: «Восхождение на Фудзияму» – об общечеловеческих проблемах; пьеса, как я говорил, ставится во всем мире. И все же, на мой взгляд, она явление прежде всего киргизской и казахской культур. Потому у нас и снимались актеры двух республик. К тому же не вижу необходимости проводить резкую грань: это киргизское, это казахское… Как вы знаете, «Снайперов» я снимал на «Казахфильме», в «Волчьей яме» роль Бабахана играл казахский актер… Актерский ансамбль «Восхождения…» возглавила одна из старейших наших актрис Сабыра Кумушалиева – человек чрезвычайно творческий, не дававший мне покоя на съемках. Сначала мы пошли по накатанному пути: ее учительница Айша-апа всегда трактовалась как старая большевичка, незыблемо преданная идеалам. Только в ходе работы мы поняли, что она сложнее, и Кумушалиева создала образ бесплотный, ускользающий, оставшийся где-то в давно прошедших временах, со ставшими призрачными идеалами. Айтурган Темирова шла к своей Гульджан 19 лет и сыграла ее на грани реальности и игры в жизнь, раздираемую противоречиями. Вообще, по-моему, все сработали отлично: и наши актеры, и казахские – Лидия Каденова, например, от начала и до конца сама «придумала» свою Анвар. «Восхождение на Фудзияму» – чисто актерский фильм, я давно хотел сделать такой.
«Смерч» Бако Садыкова и «Айланпа» Валерия Виленского, Константина Орозалиева и Чингиза Айтматова: проверка сложившихся ценностей
Невозможно не упомянуть и еще одну линию перестроечного центральноазиатского кино, редко выделяемую исследователями отдельно, – абстрактно ее можно описать как своеобразную «параджановщину», эстетский философский мозговой штурм с большой опорой на визуальную составляющую. Один из ярких примеров таких лент – «Смерч» (1988) Бако Садыкова, вполне традиционный по повествованию художественный фильм о племени, бродящем по пустыне в поисках смысла существования. Другая, и, на первый взгляд, прямо противоположная первой, лента – «Айланпа» («Мир на кругах своих», 1989) Валерия Виленского и Константина Орозалиева. Это своеобразный автофикшен Чингиза Айтматова о своем прошлом и будущем, своей семье и шире – прошлом и будущем народа, с которым писатель чувствует древнюю связь. Автофикшен этот начинается со слов космонавтов, поднявшихся выше неба, «чтобы посмотреть на себя со стороны». Примерно такую же оптику предлагают и обе картины: только если «Смерч» в своей драматургии идет от общего счастья к частному, то «Мир на кругах своих» поступает как раз наоборот. И обе они, кстати, основаны на текстах Айтматова – но сильно отличаются от «Джамили» или «Белого парохода», снятых в 1960–1970-х годах.

Режиссер Бако Садыков. 1987 год. Сергей Жуков, Роберт Нетелев / ТАСС

Писатель Чингиз Айтматов. 1977 год. Э. Коган / РИА Новости

Валерий Виленский и Джамбул Джумабаев на съемках фильма «Айланпа»

Кадры из фильма «Айланпа» (1989)

Кадры из фильма «Айланпа» (1989)

Кадры из фильма «Айланпа» (1989)
Путешествие узбекско-таджикского режиссера Бако Садыкова начинается с коллективного движения вперед по пустыне неизвестно куда, подобно то ли птицам, которых вставляет в ленту сам режиссер, то ли сподвижникам Моисея. В этом коммунитарном, даже народном акте угадывается, конечно, политический вектор конца 1980-х, но такая трактовка фильма слишком бы все упростила. На деле тут важна не цель или ее отсутствие (как такая же цель), а сам процесс узнавания себя друг в друге через такое кочевье. И музыка, которая объединяет в пути «своих».
Чингиз Айтматов в «Айланпа» совершает путешествие по своей пустыне – XX веку – один. Но рефлексируя над историей страны и семьи, он в итоге приходит к «другим» – окружающим людям, животным, миру больших городов и буранных полустанков, которому в конце столетия будто дается еще один шанс. Когда смотришь такие ленты в XXI веке, возникает ощущение, что к дискуссии, заданной в них исключительно художественными методами, можно присоединиться только из особенного времени – того, в котором надежда на будущее еще перевешивает недовольство современностью. «Смерч» и «Айланпа» впервые в Центральной Азии в недокументальной манере предложили зрителям думать не о гипотетической выдуманной реальности, а о фундаменте общества – понимании того, «кто мы, откуда и куда идем». Причем сделали это небанально и без лозунгов.