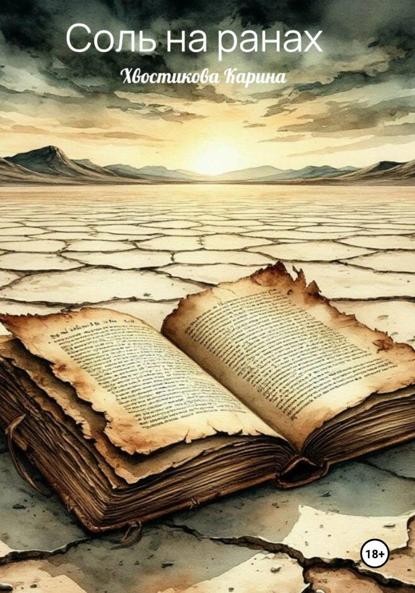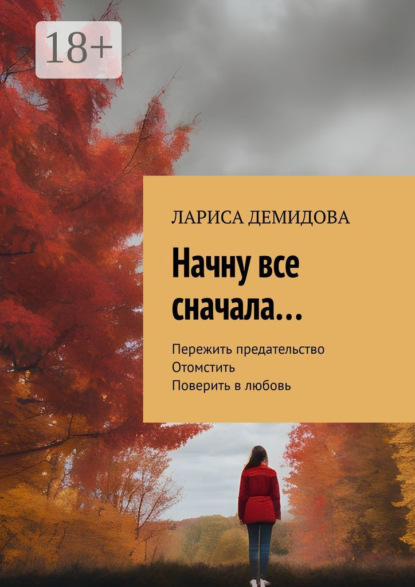- -
- 100%
- +
«20 марта 2147. Лагерь „Последний прилив“, Восточный сектор.»
Дата была за четыре месяца до исчезновения. Голос Элайры зазвучал в голове Алис сразу, без перевода, знакомый до боли, с той самой хрипотцой от постоянных выкриков на ветру и низких, задушевных интонациях, когда она говорила о чём-то важном.
«Ветер сегодня с востока. Несёт запах мёртвой рыбы и химии. Так пахнет грех. Наш семейный грех, Алис. Если бы ты только знала, что я видела сегодня. Или, может, лучше, что ты не знаешь. Иногда я завидую твоей слепоте, твоей уютной башне из стекла и данных. Там не пахнет разложением. Там пахнет… ничем.»
Алис сжала губы, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Уютная башня». Удар был точным, даже спустя столько времени.
«Провели разведку у Старого Сбросового коллектора. Данные отца были точны. Чёрт возьми, они были точны. Там, под пятнадцатиметровым слоем затвердевших отходов и соли, лежат цистерны. Десятки. Маркировка „Тетис-Крио, серия 7А“. Те самые, что должны были стабилизировать термохалинную циркуляцию в северной части Тихого океана. „Спасение экосистемы“, как он любил говорить за ужином. Ложь. Все ложь.»
Алис закрыла глаза. Перед ней всплыло лицо отца за длинным обеденным столом в их старом доме в Корпоративном секторе. Он резал искусственное мясо, аккуратно, методично, и говорил ровным, убедительным голосом о «прорывных технологиях», о «принятии сложных решений для будущего планеты». Она, подросток, слушала, впитывая, веря. Элайра же сидела, сжав кулаки, её тарелка оставалась нетронутой, а глаза метали молнии. Потом была сцена, крики… Мать пыталась примирить, безуспешно.
«Мы взяли пробы. Не рискнули проникнуть внутрь – конструкции прогнили насквозь, излучение зашкаливает. Но даже поверхностный анализ показал – это не стабилизаторы. Это катализаторы ускоренного осаждения солей и тяжёлых металлов. Они не спасали океан. Они его… чистили. Для удобства. Убивали всё живое, чтобы потом легче было добывать литий, кобальт, уран со дна. Они превратили живое море в мёртвый химический котёл, а потом в соляную пустыню. И он знал. Отец знал. Все они знали.»
Страница под пальцами Алис казалась горячей. Она чувствовала ярость сестры, исходящую от букв, как жар от раскалённого металла. И вместе с яростью – глубокую, всепоглощающую боль. Боль, которую Алис всегда старалась заглушить, закопать под слоями рациональных объяснений и тихого отчаяния.
«Иногда я думаю, что ненавижу его. Потом вспоминаю его руки, когда он учил меня вязать морские узлы. Помнишь тот старый катер деда? Он чинил его для нас. Тогда его руки пахли смолой и металлом, а не ложью. Что с ним случилось, Алис? Что случилось со всеми нами?»
Слёзы, неожиданные и жгучие, выступили на глазах Алис. Она не позволяла себе плакать. Слёзы казались непозволительной роскошью, слабостью, бесполезной тратой драгоценной влаги. Но сейчас они текли сами, тихо, оставляя солёные дорожки на её щеках, которые тут же высыхали в сухом воздухе квартиры, оставляя стягивающую плёнку. Она смахнула их тыльной стороной ладони, размазав по коже.
Она перелистнула страницу. Следующая была исписана более мелким, сжатым почерком, словно Элайра торопилась запечатлеть мысль, пока её не унесло ветром.
«25 марта. Встретила Солехода сегодня. Настоящего, не тех жалких контрабандистов, что шныряют у стен. Его зовут Кай. Он молчалив, как скала, и глаза у него цвета тёмного янтаря – в них столько же печали, сколько в этих Равнинах. Он идёт по ним, как по дому. Знает каждую трещину. Говорит, его народ помнит песни океана. Они поют их детям, чтобы не забыли. Он показал мне место, где его дед в последний раз забрасывал сети. Теперь там торчат ржавые штанги какой-то насосной станции. Он ничего не сказал, просто стоял и смотрел. А потом спел. Тихо, на языке, которого я не поняла. Но я поняла боль. Она была такой же, как моя. Мы все – сироты одного моря.»
«Кай». Имя отозвалось в памяти каким-то смутным, тревожным эхом. Возможно, она слышала его в сводках о контрабандистах или в отчётах службы безопасности. Солеходы были изгоями, полумифическими фигурами, бродягами, которые рисковали жизнью, пересекая Равнины в поисках артефактов «до-Соляной эры». Их презирали и боялись. И вот Элайра нашла с одним из них общий язык. Общую боль.
Алис почувствовала странный укол – не ревности, а скорее горького понимания пропасти между ними. Элайра могла найти родственную душу в изгое, в человеке земли и соли. Она же, Алис, не могла удержать рядом даже цивилизованного коллегу.
Она продолжала читать, проглатывая страницу за страницей, погружаясь в мир сестры, который был полон отчаяния, гнева, но и одержимости, граничащей с безумием.
«10 апреля. Сны стали ярче. Вижу рифы. Не в архивах, а живые. Чувствую давление воды, холодок на коже. Просыпаюсь – и на мне соль. Всюду соль. Она въелась в поры, в волосы, под ногти. Иногда мне кажется, я сама превращаюсь в соляной столп. Как жена Лота. Оглянуться нельзя. Но я оглядываюсь. Постоянно. И вижу только руины.»
«1 мая. Получила данные со спутникового зондирования (спасибо, Лиам, где бы ты ни был, надеюсь, они тебя не поймали). Аномалия в термическом поле. Глубоко, под слоем в сорок метров. Тепло. Геотермальная активность? Или… что-то ещё. Координаты прилагаю. Если что-то случится, пусть это не пропадёт. Надо идти туда. Это может быть… Это может быть ОНО.»
«ОНО». Слово было написано с такой силой, что бумага порвалась. Алис провела пальцем по шершавому краю разрыва. Это было то самое место. Тот самый риф. Или то, что Элайра приняла за него.
Чтение становилось невыносимым. Каждая строчка была ударом хлыста по её душе. Но она не могла остановиться. Это было как смотреть в открытую рану, свою собственную, долго игнорируемую и теперь воспалившуюся.
И вот она дошла до последней записи перед коралловым рисунком. Дата – всего за неделю до того, как группа Элайры перестала выходить на связь.
«15 октября. Завтра выступаем. Всё готово. Данные, образцы (боже, эти образцы!), фото. Мы покажем миру. Мы заставим их увидеть. Я пыталась позвонить Алис. Трубку не взяла. Наверное, работает. Или просто не хочет говорить. Иногда мне кажется, она ненавидит меня за мою надежду. Ей проще считать меня сумасшедшей, чем признать, что наша семья, её любимые данные и её аккуратный, упорядоченный мир построены на костях и лжи. Я не виню её. Страшно смотреть в бездну. Но я уже в ней нахожусь. И знаешь что, сестрёнка? Здесь, в самой глубине, иногда виден свет. Слабый, но настоящий. Я иду на него. Если не я, то хотя бы это должно дойти до тебя. Ты всегда умела чинить сломанные вещи. Почини и это. Если сможешь.»
Слово «сестрёнка» было написано мельче, словно Элайра застеснялась этой внезапной нежности. Алис сжала глаза так сильно, что перед ними поплыли разноцветные круги. Грудь её болезненно сжалась, воздух со свистом вырвался из лёгких. Она согнулась над столом, уронив голову на раскрытые страницы. Запах поднялся к её лицу – запах старой бумаги, выцветших чернил, чего-то сладковато-горького, возможно, запёкшейся крови или органического клея. И под всем этим – едва уловимый, призрачный аромат Элайры. Не парфюма, а её запах: солнечный, немного пряный, с оттенком морской соли и чего-то неуловимого, чисто её. Он сохранился, запертый в этих страницах, и теперь ударил в ноздри Алис с такой силой, что её вырвало.
Она едва успела отпрянуть от стола. Спазмы согнули её пополам. Из горла вырвалось несколько жалких, сухих порывов – желудок был пуст. Она стояла, согнувшись, опираясь руками о колени, слюна и горькая желчь капали на пол. Слёзы текли ручьями, смешиваясь со слюной, её тело била крупная дрожь.
Когда спазмы прошли, она медленно выпрямилась, вытирая рот рукавом халата. В комнате стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь её прерывистым, хриплым дыханием. Она посмотрела на дневник, на испачканную страницу. Чёрточки букв расплылись в мокром пятне.
«Ты всегда умела чинить сломанные вещи.»
Фраза эхом отдавалась в её черепе. И с ней всплыла память. Не та, что была в дневнике, а более ранняя, глубокая, из времён, когда мир ещё не раскололся надвое.
Лето. Ей девять, Элайре двенадцать. Они на пляже. Не том последнем, проклятом, а другом, более раннем, который потом тоже поглотила соль. Он назывался Лагуна Ракушек. Солнце жаркое, но не убийственное, воздух влажный и солёный, но не ядовитый. Они с сестрой убежали от родителей, от нянек, от правил. Их ноги тонули в тёплом, мокром песке, оставляя чёткие следы, которые тут же размывались набегавшими волнами.
Элайра бежала впереди, её медные волосы, распущенные и непослушные, развевались, как пламя. Она кричала что-то, но ветер уносил слова. Алис старалась не отставать, чувствуя, как песок забивается в сандалии, как солёные брызги щиплют кожу.
«Смотри!» – закричала Элайра, останавливаясь у самой кромки воды, где пена была самой густой. Она наклонилась, её пальцы погрузились в мокрый песок. Когда она выпрямилась, в её руках была раковина. Огромная, больше её ладони, спиральная, ребристая, цвета слоновой кости с розоватым отливом внутри.
Алис замерла, зачарованная. Это была самая большая и красивая раковина, которую она когда-либо видела.
«Дай послушать!» – взмолилась она.
Элайра улыбнулась, её лицо, покрытое веснушками, сияло. Она осторожно, как святыню, поднесла раковину к уху сестры. «Прислушайся. Это океан говорит.»
Алис прижала раковину к уху. И услышала. Гул. Низкий, мощный, бесконечный гул, в котором угадывался рокот, шёпот, пение. Это был голос самого мира, замкнутый в перламутровой спирали. Он вибрировал у неё в костях, отзывался эхом в грудной клетке. Она закрыла глаза, погрузившись в этот звук. Он был живым. Он был вечным.
«Слышишь?» – прошептала Элайра, её глаза сияли.
Алис кивнула, не в силах вымолвить слово. Она слышала. И это был самый прекрасный звук на свете.
Потом Элайра забрала раковину, приложила к своему уху. «Он говорит, что мы должны его беречь. Что он даёт нам жизнь. И что мы никогда не должны забывать его голос.»
Они просидели так, передавая раковину друг другу, до самого заката, пока родители не нашли их, ругая за непослушание и мокрую одежду. Но раковину они спрятали. Забрали с собой. Она стала их талисманом.
Позже, когда Отступление стало реальностью, а воздух начал горчить, Алис снова и снова прикладывала ту раковину к уху. Сначала гул был ещё слышен. Потом он стал тише, словно океан отдалялся. Потом в нём появились посторонние звуки – свист ветра в щелях, её собственное кровообращение. А однажды она приложила раковину и услышала только тишину. Абсолютную, мёртвую тишину. Она трясла раковину, прижимала её сильнее, но ничего. Океан в ней умер.
Она так и не выбросила её. Раковина до сих пор лежала где-то на дне её старой коробки с детскими вещами, на хранении в подвале комплекса. Мёртвый артефакт. Немая скорлупа.
Воспоминание рассеялось, оставив после себя острую, режущую тоску. Алис снова посмотрела на дневник. На слова «Почини и это».
Она не умела чинить. Она умела только консервировать. Бальзамировать. Запирать призраков в цифровые склепы. Она была не реставратором, а гробовщиком утраченного мира.
Её руки, всё ещё дрожа, потянулись к дневнику снова. Но не к тексту. Она осторожно, боясь повредить хрупкую бумагу, перелистнула несколько страниц после рисунка коралла. И там, в середине дневника, она нашла их.
Зарисовки. Эскизы. Беглые наброски, сделанные карандашом или углём. И акварели – маленькие, размером с ладонь, но невероятно детализированные. Элайра фиксировала всё: странные соляные образования, похожие на цветы или кораллы; мутировавших насекомых с прозрачными крыльями и хитиновыми панцирями, покрытыми кристаллами; окаменевшие стволы деревьев, торчащие из грунта, как кости великанов. И людей. Солеходов. Суровые, исхудалые лица, прорезанные глубокими морщинами, глаза, смотрящие куда-то вдаль, за горизонт. И Кай. Его портрет был здесь.
Алис замерла, рассматривая рисунок. Он был сделан углём, резкими, уверенными штрихами, которые выхватывали из темноты лишь самое главное. Высокие скулы, сильный, немного крючковатый нос, густые брови, сведённые в привычной нахмуренности. Рот – твёрдая, прямая линия. Но глаза… Элайра проработала их тщательнее. Они были глубоко посажены, с тяжёлыми веками, но в них, в этих угольных точках зрачков, художнице удалось передать что-то неуловимое. Не просто печаль, а сложную смесь боли, упрямства и странной, древней мудрости. Человек, который видел конец мира и всё ещё находил причины идти вперёд.
Алис почувствовала странное, непонятное ей самой волнение. Она быстро перелистнула страницу, словно боясь, что рисунок увидит кто-то другой.
Дальше шли схемы, карты, вырезки из старых отчётов «Тетис» с пометками Элайры на полях. Технические данные о геологии Равнин, расчёты глубины залегания водоносных слоёв, химические формулы. Это была уже не лирика, а методичная, научная работа исследователя, собиравшего доказательства для грандиозного обвинения. И для ещё более грандиозной надежды.
Алис читала и смотрела до тех пор, пока её глаза не начали слипаться от усталости, а буквы не поплыли перед глазами. Рассвет уже начинал размывать черноту за окном, окрашивая её в грязно-серый, свинцовый цвет. Её тело ныло от долгого сидения в неудобной позе, шея затекла, спина гудела тупой болью.
Она закрыла дневник. Теперь он был не просто предметом. Он был сосудом. В нём жила душа её сестры – со всей её яростью, болью, любовью к миру, который её семья уничтожила, и с её безумной, непоколебимой верой в чудо.
И эта душа теперь смотрела на Алис. И ждала.
«Почини и это.»
Как? Как можно починить целый мир? Как можно искупить вину, которая даже не до конца твоя, но которую ты носишь в себе, как генетическое проклятие?
Она подняла глаза и посмотрела в окно. Серый свет зари медленно выявлял очертания Равнин. Они лежали, бескрайние и безмолвные, воплощение смерти. Где-то там, в этой пустоши, Элайра оставила своё тело и свою надежду.
И внезапно, с леденящей ясностью, Алис поняла, что будет дальше. Она не могла остаться здесь. Не могла просто спрятать дневник, сделать вид, что ничего не произошло, и вернуться к консервации призраков. Дневник был не просто памятью. Он был картой. Инструкцией. И долгом.
Она должна была пойти. Должна была увидеть то, что видела Элайра. Дойти до тех координат. Узнать, что скрывается под слоем соли. Узнать, за что именно погибла её сестра. И если там действительно было что-то живое… Что тогда? Она не знала. Но оставаться здесь было уже невозможно.
Мысль о том, чтобы ступить на Равнины, вызвала в ней приступ чисто животного, первобытного ужаса. Она была дочерью технократии, существом архивов и климат-контроля. Её стихией были данные, а не смертоносные пустоши. Она не знала, как выжить за пределами Купола. Но она знала, кому может знать.
Кай. Солеход. Человек с глазами цвета тёмного янтаря, который знал песни об океане и каждую трещину на Равнинах.
Чтобы найти его, ей нужно будет спуститься вниз, в ту часть Анклава, куда она никогда не заглядывала. На Рынок Теней. Место, где законы корпорации теряли силу, а товаром были артефакты утраченного мира и услуги тех, кто умел выживать в новом.
Страх сжал её горло. Это было безумие. Самоубийство. Но когда она посмотрела на закрытый дневник, на потёртую кожу обложки, где хранилась душа её сестры, она поняла, что другого выбора у неё нет.
Она медленно поднялась со стула. Ноги онемели, затекли, и она чуть не упала, ухватившись за край стола. Свет за окном становился ярче, безжалостно освещая убогую реальность её квартиры. День начинался. Обычный день. Работа. Архив. Консервация.
Но для Алис всё изменилось. Теперь у неё была тайна, которая жгла её изнутри. И цель, которая пугала её до глубины души.
Она подошла к шкафу, нашла на самой верхней полке пустую, герметичную коробку из-под электронных компонентов. Осторожно, как драгоценность, уложила внутрь дневник, обернув его в мягкую ткань. Закрыла крышку, защёлкнула замки. Коробку она спрятала под съёмную панель под своей кроватью – примитивное, но надёжное укрытие.
Потом подошла к крошечному зеркалу в прихожей. Отражение, которое встретило её, было чужим. Бледное, исхудавшее лицо с огромными тёмными кругами под глазами. Глаза сами, серые и безжизненные, казались теперь иными. В их глубине, за усталостью и страхом, теплилась крошечная, едва уловимая искра. Искра решимости. Или безумия. Возможно, это было одно и то же.
Она повернулась от зеркала, её взгляд упал на окно, на проступающие в утреннем свете бескрайние Равнины.
«Я иду, Лира, – прошептала она, и её голос прозвучал хрипло, но твёрдо. – Покажи мне свой свет.»
Воздух, который она вдохнула, готовясь к новому дню, был по-прежнему горьким. Но теперь в этой горечи чувствовался вкус чего-то ещё. Вкус страха, смешанный с твёрдым, металлическим привкусом долга. И далеко-далеко, на самом краю сознания, как эхо из мёртвой раковины, ей почудился слабый, почти не слышный гул. Гул океана, которого больше не было. Или, может быть, гул её собственной крови, наконец-то пробудившейся от долгого сна.
Глава 3. Наследство
Путь в Корпоративный сектор занял у Алис больше часа на автоматическом трамвае, который скользил по рельсам над крышами стандартных жилых кварталов, словно стыдясь прикоснуться к ним. Это был другой мир – мир широких, почти пустынных проспектов, окаймлённых рядами генномодифицированных кипарисов с серебристой хвоей, которая не боялась солёного воздуха. Здания здесь были не высотными муравейниками, а низкими, раскидистыми особняками из натурального камня и композитного стекла, спроектированными в стиле, который когда-то называли «неофутуризмом», а теперь он напоминал надгробные памятники ушедшей эпохе изобилия. Каждый дом был окружён защитным биокуполом – полупрозрачной сферой, внутри которой поддерживалась своя атмосфера, своя температура, своя иллюзия нормальности. Здесь воздух, прошедший через многоступенчатую фильтрацию, пах не горечью, а сладковатым озоном и ароматизаторами «морской бриз» или «альпийский луг». Здесь не было видно Равнин – их заслоняли искусственные холмы и стены из живых изгородей. Здесь забывали.
Трамвай остановился на тихой платформе. Алис вышла, её комбинезон архивариуса выглядел здесь чужеродным, убогим пятном на фоне стерильного ландшафта. Она прошла по пустому тротуару, мимо бесшумно скользящих личных электрокаров, чувствуя на себе невидимые взгляды камер наблюдения. Этот район охранялся не корпоративной стражей, а частными системами безопасности, которые были куда более эффективны и безжалостны.
Дом её отца стоял в конце тупиковой аллеи. Он был одним из самых скромных в секторе – одноэтажный, растянувшийся в ширину, с плоской крышей-террасой и фасадом, облицованным тёмным, пористым базальтом, впитывавшим свет. Биокупол над ним был едва заметен, лишь лёгкое мерцание в воздухе выдавало его присутствие. У входа, за калиткой из кованого титанового сплава, сидел на постаменте старый якорь – настоящий, ржавый, привезённый с какого-то разобранного судна. Бессмысленный реликт. Отец всегда говорил, что это «символ стабильности». Алис видела в нём лишь символ привязанности к тому, что навсегда ушло.
Она поднесла ладонь к сканеру у калитки. Система мгновенно считала её отпечаток – она всё ещё была в списке допущенных, хотя не была здесь больше полугода. Замок щёлкнул с тихим, дорогим звуком. Калитка отъехала в сторону.
Двор был вымощен светлым камнем, между плитами пробивалась упругая, изумрудно-зелёная трава – ещё один генномод, устойчивый к соли и требующий минимум воды. По краям цвели кусты с неестественно яркими, голубыми цветами, похожими на незабудки. В центре маленького пруда, где вода циркулировала в замкнутом цикле, стояла абстрактная скульптура из полированного металла, изображавшая, как ей всегда казалось, волну. Но волну застывшую, мёртвую.
Дверь в дом была из тёмного дерева – настоящего, ещё одного признака роскоши. Она открылась сама, когда Алис подошла вплотную.
Внутри царил полумрак и прохлада. Воздух был стерильно чист, пах древесиной, воском и едва уловимыми нотами сандала. Полы из тёмного дуба, стены, обшитые панелями из светлого ясеня, минималистичная мебель в стиле середины века – всё говорило о вкусе, деньгах и полной оторванности от мира за стенами. На стенах висели картины – не голограммы, а настоящие холсты. Пейзажи. Один изображал бурное море у скалистого берега, другой – тихую лесную заводь. Искусство как побег.
– Мастер Алис, – раздался мягкий, механически-вежливый голос. Из тени выплыл серво-дроид, человекообразный, но с гладким, лишённым черт лицом из белого пластика. Он был одет в тёмный костюм-тройку, что выглядело гротескно. – Доктор Макбрайд в солярии. Он предупреждён о вашем визите. Позвольте сопроводить вас.
Алис молча кивнула. Она ненавидела этого дроида, которого отец назвал «Джарвис» в честь какого-то старинного фильма. Он был частью декора, частью этой тщательно выстроенной иллюзии.
Она последовала за механической поступью дроида по коридору. Её собственные шаги, в грубых, практичных ботинках, гулко отдавались по паркету. Она прошла мимо гостиной, где на каминной полке стояли фотографии: она и Элайра в детстве; их мать, Эвелин, улыбающаяся, с глазами, в которых уже тогда таилась грусть; отец, Деклан Макбрайд, в дни своего расцвета – высокий, статный, с пронзительным голубым взглядом и уверенной улыбкой лидера.
Солярий находился в дальнем конце дома. Это была просторная комната со стеклянной стеной и потолком, выходившими в закрытый внутренний сад. Но сейчас стекла были затемнены, а вместо реального вида проецировалась голограмма невероятной, кристальной чистоты. Бирюзовая вода, сквозь которую пробивался солнечный свет, играя на песчаном дне. Рыбки – яркие, тропические, невозможные – медленно проплывали мимо. В углу голограммы виднелся край кораллового рифа, розового и пушистого, как сказочный сад. Звуковое сопровождение создавало иллюзию: мягкий гулкий рокот, щелчки, потрескивания, далёкие, мелодичные крики дельфинов. Воздух в комнате был специально увлажнён и подогрет, пахнул морем – тем самым, синтетическим, идеальным запахом, который продавали в аэрозолях для релаксации.
В центре комнаты, в глубоком кресле-коконе из чёрной кожи, сидел её отец.
Деклан Макбрайд выглядел старше своих шестидесяти пяти лет. Высокий костяк ещё угадывался под провисшей, почти дряблой кожей, но осанка была сломлена. Он сидел, утонув в кресле, его руки с тонкими, почти прозрачными пальцами лежали на подлокотниках. На нём был шёлковый халат тёмно-синего цвета и мягкие замшевые тапочки. На переносице покоились лёгкие очки виртуальной реальности с матовыми линзами. Он не двигался, полностью погружённый в свой цифровой океан.
– Доктор, ваша дочь, – произнёс дроид, склонив голову.
Деклан вздрогнул, его пальцы дёрнулись. Медленно, с видимым усилием, он поднял руки к лицу и снял очки. Мир вокруг него, реальный, тёмный и пустой, должен был обрушиться на него после той яркой голограммы. Он моргнул несколько раз, его глаза – те самые голубые, но теперь потускневшие, покрытые влажной плёнкой – с трудом сфокусировались на Алис.
– Алис? – его голос был хриплым от неиспользования. – Это… неожиданно.
– Привет, отец, – сказала она, и её собственный голос прозвучал чужим, резким в этой комнате притворного покоя.
Он кивнул, жестом отправил дроида прочь. Механизм бесшумно удалился. Отец снова моргнул, потянулся к столику рядом с креслом, взял хрустальный стакан с янтарной жидкостью. Виски. Настоящее, выдержанное. Ещё один реликт.
– Садись. Что привело тебя в эти края? Проблемы с работой? – он сделал глоток, и его лицо скривилось – не от вкуса, а от необходимости вернуться в реальность.
Алис осталась стоять. Она чувствовала, что если сядет, то утонет в этой атмосфере искусственного умиротворения, потеряет хрупкую решимость, которая привела её сюда.
– Мне нужно поговорить. Об Элайре.
Имя повисло в воздухе тяжёлым, ядовитым облаком. Деклан замер, его пальцы сжали стакан так, что костяшки побелели. Он отвёл взгляд, уставившись в затемнённое стекло, за которым мерцала голограмма.
– Элайры больше нет, Алис. Мы обсуждали это. Много раз.
– Её нашли. Вернее, нашли её вещи.
Он резко повернул голову, и в его глазах на секунду вспыхнуло что-то – страх? тревога? – но тут же погасло, сменившись привычной усталой маской.
– Что ты имеешь в виду?
– Дневник. Её полевой дневник. Солеходы принесли его Логану. Логан передал мне.
– Логан Дарвин, – произнёс Деклан с лёгким презрением. – Контрабандист и паникёр. Он всегда был слаб. И что в этом дневнике? Больше теорий заговора? Обличений?
– Факты, отец. Данные о сбросах. Координаты. И… рисунок.
Он нахмурился. – Рисунок?
– Коралловый веер. Живой. С координатами, где он, по её мнению, находится. Под Равнинами.