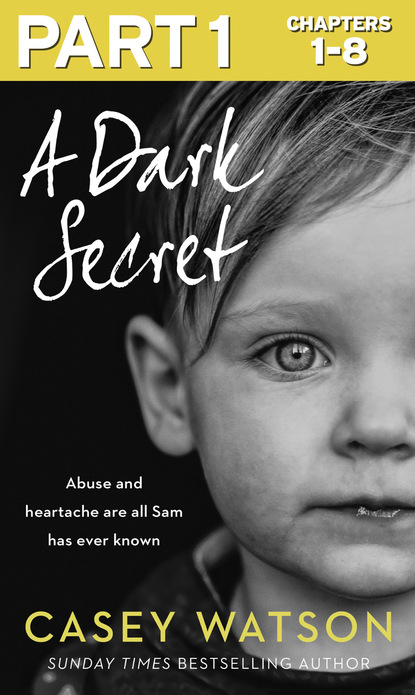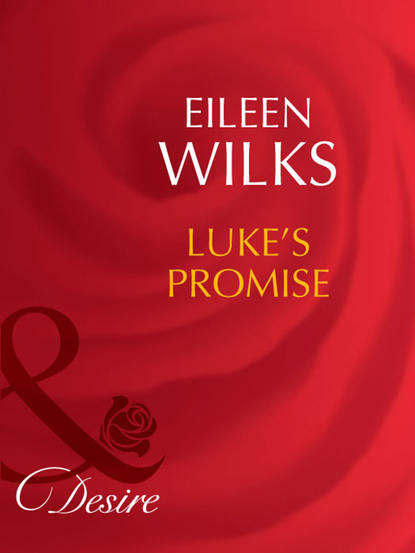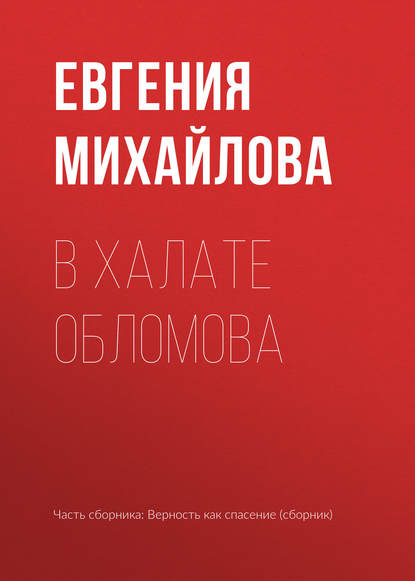Взрослая жизнь «невидимых детей». Психологическая работа с последствиями эмоционального игнорирования
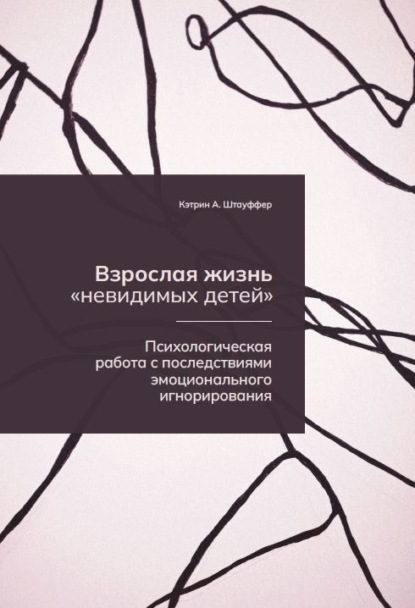
- -
- 100%
- +

Посвящается моему отцу, пережившему в детстве опыт эмоционального игнорирования.

EMOTIONAL NEGLECT AND THE ADULT IN THERAPY
Lifelong Consequences to a Lack of Early Attunement
KATHRIN A. STAUFFER

W. W. NORTON & COMPANY
Independent Publishers Since 1923
В оформлении обложки использована фотография N. Dumlao
В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

© W.W. Norton & Company Ltd., 2020
© Издательство «Генезис», 2025
© Е. Мягченкова, перевод, 2025
«Кэтрин Штауффер как терапевт, чья специализация – исследование опыта взаимоотношений клиента, настаивает на том, что человек биологически устроен так, чтобы делиться своими чувствами, причем даже и не с помощью слов, а через совместную деятельность, приносящую радость и удовольствие. Мы не должны оставаться в одиночестве, борясь с печалями и заботами или испытывая чувство вины от того, что не ощущаем связи с собой.
В этой книге Штауффер описывает работу с четырьмя клиентами, которые испытывают тревогу и стыд в результате эмоционального пренебрежения в детстве. Она рассказывает о том, как терапия, сфокусированная на создании прочных, безопасных и поддерживающих отношений, может улучшить жизнь клиента.
Исследования, которые проводились на базе достижений в психологии младенчества 1960-х годов, подтвердили, что каждый человек испытывает потребность в симпатии, близости в отношениях. Нейробиологические исследования в области привязанности доказали, что сознание формируется вследствие развития произвольной, волевой регуляции своей деятельности, а мозг человека устроен так, чтобы в ходе совместной творческой деятельности обеспечивался взаимообмен целями и эмоциями».
Колвин Тревартен, доктор психологии, почетный профессор детской психологии и психобиологии, Школа философии, психологии и лингвистических наук, Университет Эдинбурга«В этой книге Кэтрин Штауффер предлагает разумную и доступную теорию, а также описывает психологические вмешательства для работы с последствиями эмоционального пренебрежения в детстве, подкрепляя эту информацию тщательно подобранными и четкими примерами. Штауффер обладает удивительной чуткостью и состраданием – качествами, необходимыми для помощи столь хрупким клиентам, и щедро делится своими знаниями с читателями.
Бабетта Ротшильд, автор книг «Воспоминания тела. Психофизиология и терапия психологической травмы» и «Революция в терапии травм: стабилизация, безопасность и баланс нервной системы»Введение
Клиенты, о которых пойдет речь в этой книге, чаще всего приходят на терапию, чтобы избавиться от тревоги и стресса. Кажется, что они прямо-таки сражаются с жизнью и воспринимают ее как неподъемный труд, но не понимают, почему так происходит. Такого рода клиенты очень вежливы, довольно застенчивы и будто немного отстранены от своих чувств.
Терапевту, в свою очередь, будет трудно добиться внятного рассказа о том, что подтолкнуло клиента прийти, потому как тот начнет говорить что-то вроде: «Со мной никогда не происходило ничего плохого» или «Вроде все было хорошо, и у меня вообще-то не должно быть никаких проблем». Это отсутствие последовательного, связного рассказа о жизненных трудностях будет очень заметно.
Такой клиент готов к усердной работе в процессе терапии, но нуждается в подробных указаниях от терапевта – без них процесс терапии застопорится. Если терапевт все же начнет давать указания, клиент может с облегчением им последовать – или же начать спорить и говорить, что не может их выполнить. Терапевт, вероятно, отметит у клиента избегающую модель поведения, мощный защитный механизм, отсутствие спонтанности и в целом подавление внутренней жизни.
Как правило, такой клиент постоянно испытывает беспокойство, но старательно скрывает это от окружающих. После нескольких сеансов терапевт понимает, что все сферы жизни клиента проникнуты тревогой, а сам он испытывает трудности с регуляцией аффекта. Кроме того, у него нарушен контакт с телом, а следовательно, и с его более глубокой жизненной силой.
Такой клиент склонен ходить мыслями по кругу и беспокоиться обо всем, особенно о своем здоровье. У него, как правило, недостаточно навыков для межличностного общения, из-за чего он может страдать от социальной тревожности и испытывать дискомфорт в компании других людей или терапевта. Проницательному терапевту вскоре становится ясно, что клиента мучает стыд, однако причины этого стыда будут неочевидны.
Обычно такой клиент сильно сопротивляется изменениям в процессе терапии. Кажется, будто он не надеется на улучшения, слишком боится перемен или и вовсе не хочет, чтобы ему стало лучше. Терапевт может воспринять такое сопротивление как пассивную агрессию или саботаж терапии. Требуется глубокое сострадание, чтобы понять, что у клиента настолько мало ресурсов, что он просто не может позволить себе рискнуть их потерять. Поэтому любые изменения должны обсуждаться и происходить очень медленно.
Последующая терапия выявит, что клиент страдал от эмоционального пренебрежения в раннем возрасте. Я называю таких клиентов «невидимыми детьми», потому что в их истории, как правило, есть эпизоды отсутствия должного внимания в младенчестве или раннем детстве со стороны тех людей, которые должны были о них заботиться. Может, это и не было отвержением или насилием, но они не чувствовали себя любимыми и не ощущали себя в безопасности. Родители/опекуны не только не удовлетворяли, но порой и вовсе не замечали их потребностей. Таких детей игнорировали, обращались с ними как со взрослыми с самого раннего возраста, а иногда и требовали от них помощи, не давая взамен никакого положительного внимания.
То, что я называю эмоциональным пренебрежением – это, в частности, такие ощущения ребенка в первые шесть лет его жизни, при которых он не чувствовал, что родители/опекуны ему рады, воспринимают его как отдельную личность и удовлетворяют (или хотя бы замечают) его потребности. В жизни ребенка, которым эмоционально пренебрегают, нет взрослого опекуна, на которого он всегда может рассчитывать, благодаря которому почувствовал бы, что ему рады, который присматривал бы за ним и обеспечивал безопасность и к которому он мог бы обратиться за помощью и поддержкой. Такие дети предоставлены сами себе и вынуждены сами о себе заботиться – а зачастую не только о себе, но и о своих родителях.
За последние годы терапевты многое узнали о жестоком обращении в раннем возрасте и о том, какие последствия оно имеет для детей. Порой людей, которыми пренебрегали в детстве, ставят в один ряд с теми, кто подвергался насилию, однако это неправильно – хотя травма присутствует у обеих групп, характер травматизации совершенно разный. В следующих главах я расскажу об основных характеристиках клиентов с историей раннего эмоционального пренебрежения.
Главным последствием эмоционального пренебрежения является то, что человек вырастает с некоторой недостачей жизненного потенциала. Такой человек будет скорее похож на ребенка, который пытается жить как взрослый и постоянно из-за этого перенапрягается, потому как вынужден «бежать», дабы не отстать от других. Травматизация человека, страдавшего от эмоционального пренебрежения в детстве, сродни эмоциональному выгоранию, которое возникает, когда человек вынужден делать слишком многое при слишком малом количестве ресурсов. Следовательно, главная задача терапии – помочь клиенту в наращивании ресурсов.
Клиническая практика показывает, что дефицит ресурсов для развития чрезвычайно затрудняет процесс изменений – потому что если у человека мало ресурсов, он не позволяет себе рискнуть потерять что-то из того, что способствует его привычному функционированию. Поэтому изменения в процессе терапии с клиентами, которыми эмоционально пренебрегали в детстве, происходят очень медленно, маленькими шагами – путем взращивания новых ресурсов, не представляющих угрозы для старых.
Еще одно следствие раннего эмоционального пренебрежения – это глубоко поселившееся чувство, что человека не замечают, ему не рады, его не любят. Такое ощущение почти наверняка приведет к всепроникающему и ядовитому стыду. Тревога и стыд главенствуют у тех взрослых, которыми пренебрегали в детстве. Эти чувства заслоняют все остальные и осложняют понимание внутренних конфликтов клиента.
Отсутствие заботы в детстве приводит к тому, что, взрослея, человек продолжает чувствовать себя растерянным, сбитым с толку: как будто его не научили, как «жить» эту жизнь. Из-за этого у него могут вызывать тревогу и даже стыд ситуации, требующие спонтанности, – например, игры или принятие решений. Такой человек обычно считает, что должен полагаться только на себя, и не ждет помощи или поддержки от окружающих. В то же время он может страстно хотеть, чтобы кто-то направил его и взял на себя ответственность за его жизнь.
Дети, которых игнорируют родители или опекуны, с большой долей вероятности не смогут развить крепкие узы привязанности. Ребенок будет стараться быть тише воды ниже травы, дабы не вызвать неудовольствия у взрослого, которое он расценивает как угрозу отношениям. Такой тип привязанности (который на первый взгляд может выглядеть избегающим или даже избегающе-отвергающим), вероятнее всего, сохранится и во взрослой жизни.
Исследования показывают, что влияние эмоционального пренебрежения на человека в раннем детстве сопоставимо с влиянием эмоционального насилия на психическое и физическое здоровье, а также на социальное функционирование взрослого (см. Sciarrino et al., 2018). В одном из исследований было обнаружено, что эмоциональное пренебрежение в раннем возрасте приводит к повышенной активности миндалевидного тела, вследствие чего возникает высокий риск того, что человек будет склонен к тревоге на протяжении всей жизни (Bogdan et al., 2012; De Bellis et al., 2009). Другое исследование изучало детей, чьи матери страдали от послеродовой депрессии, и выявило, что и у самих детей риск возникновения депрессии оказался высоким (Murray & Cooper, 1996). В целом, появляется все больше подтверждений того, что «невидимые дети» сталкиваются с тяжелыми последствиями во взрослом возрасте (Joseph, 1999).
Мне довелось работать со многими клиентами, которых игнорировали в детстве, и я многое узнала об их опыте, а также о том, как можно помочь им в процессе терапии. Я обнаружила, что для многих терапевтов сложно работать с такими клиентами по двум причинам:
– зачастую создается впечатление, будто такие клиенты функционируют вполне нормально, однако на самом деле они гораздо более уязвимы, чем кажется;
– процесс терапии продвигается крайне медленно, чего некоторые терапевты не могут вынести.
Когда я рассказывала коллегам о своем опыте работы с клиентами, которыми эмоционально пренебрегали в детстве, меня часто спрашивали, что можно почитать, чтобы узнать об этой теме больше. Выяснилось, что существует очень мало литературы о раннем эмоциональном пренебрежении (Hobbs & Wynne. 2002; Leeds. 2012). Отчасти это и побудило меня написать книгу, чтобы внести свой вклад в изучение этой области.
Книга ориентирована на психотерапевтов, которые работают со взрослыми, поэтому она вряд ли будет полезна тем, кто работает с детьми – в ней нет никакой информации о детской терапии. Однако она может пригодиться людям, далеким от психологии, которые столкнулись с эмоциональным пренебрежением в детстве – благодаря ей они смогут лучше понять себя или своих близких, с которыми это произошло.
Мой главный интерес – это клиническая практика психотерапии. Изначально я училась на телесного психотерапевта, однако с тех пор я многое узнала о терапии в целом, а также о некоторых полезных подходах, направленных в основном на лечение травм. На своих первых курсах телесной терапии я, помимо прочего, поняла, что любой терапевтический процесс движется в своем темпе, и даже если он очень медленный, его результаты все равно можно заметить, внимательно наблюдая за клиентами.
Поскольку эта книга посвящена эмоциональному пренебрежению, я не буду много говорить о пренебрежении физическом – скажу только, что они нередко пересекаются, особенно в небогатых семьях, в которых взрослые часто недоступны для детей (Nikulina & Widom. 2014; Widom et al.. 2012). При этом я уверена, что физическое пренебрежение в прошлом имеет эмоциональные последствия в настоящем, поэтому с ним тоже нужно работать.
Я также практически не затрагиваю тему насилия над детьми, будь то физическое, эмоциональное или сексуализированное. Я прекрасно понимаю, что зачастую насилие и эмоциональное пренебрежение совмещаются – однако я намеренно сконструировала примеры моих терапевтических случаев таким образом, чтобы они касались людей, которые не сталкивались с насилием. Как правило, насилие легче выявить, а кроме того, ему посвящено огромное количество литературы – чего нельзя сказать об эмоциональном пренебрежении. И именно поэтому я делаю акцент на нем. Терапевтам, которые работают со сложными историями травм, включающими в себя как насилие, так и пренебрежение, эта книга тоже будет интересна: возможно, она поможет им лучше понять некоторые особенности своих клиентов, а также узнать об эффективных методах лечения.
Структура книги отражает мое видение работы со взрослыми, которых игнорировали в детстве. В главе 1 я подробно описываю особенности клинических проявлений с акцентом на субъективный опыт клиента. В главе 2 привожу примеры типичных историй и возможные сценарии, которые могут стать причиной эмоционального пренебрежения детьми. В главах 3 и 4 представлены теоретические модели, которые помогут лучше понять таких клиентов. Я условно разделила эти модели на психотерапевтические и нейробиологические. Главы 5 и 6 посвящены психотерапевтической работе с людьми, которыми эмоционально пренебрегали. В главе 5 изложены соображения, которыми я руководствуюсь при работе с такими клиентами, – то, что я называю аспектами взаимоотношений клиента и терапевта. В главе 6 я подробно описываю конкретные терапевтические подходы, которые считаю эффективными, а также рассказываю, как их применяю. В заключении я пишу о «невидимых детях» и об их месте в современном мире: о том, как трудно им бывает найти свое призвание, и о том, что зачастую их неправильно понимают, эксплуатируют и дискриминируют.
Для наглядности я сконструировала четыре случая взрослых клиентов, каждый из которых представляет различные аспекты последствий эмоционального пренебрежения. Процесс терапии этих клиентов проходит через всю книгу, и я надеюсь, что это сделает ее более понятной и живой.
Глава 1
Опыт «невидимого ребенка»
Четыре клиента – четыре случая
Мортимеру двадцать с небольшим, и он обратился к психотерапевту, потому что страдает от тревожности. Он рассказывает: «Я не знаю, почему постоянно волнуюсь, но, кажется, я такой всю жизнь. У меня ощущение, будто я родился совсем без уверенности в себе».
Мортимер – единственный ребенок двух амбициозных родителей с блестящей бизнес-карьерой. Он рос застенчивым мальчиком: в школе его дразнили занудой и порой издевались над ним. В колледже ситуация немного наладилась – он закончил обучение с хорошими оценками и познакомился со своей девушкой, с которой они сейчас живут вместе. При этом он чувствует, что застопорился в профессиональном плане после окончания обучения: большинство профессий кажутся ему сложными и напряженными.
В социальном плане Мортимер большую часть времени замкнут, что в последнее время все больше огорчает его девушку – и это страшно его тревожит, поскольку он боится, что она его бросит. При этом сказать ей об этом он не может и потому не видит выхода из ситуации.
Он рассказывает, что в детстве был довольно избалованным, как это часто бывает в семьях с одним ребенком. Он чувствует, что так и не научился заботиться о себе, и беспокоится, что разочаровал своих родителей. Оба родителя по-прежнему играют важную роль в его жизни, и он готов пожертвовать своим комфортом ради того, чтобы удовлетворить их потребности (особенно потребности матери). Он подчеркивает, как благодарен своим родителям за счастливое и спокойное детство.
С Мортимером непросто работать – обычно он испытывает беспокойство, когда заходит в мой кабинет, и ему сложно включиться в беседу. Если я жду, пока он заговорит, он начинает тревожиться еще больше, воспринимая мое молчание как наказание и принуждение к действию. При этом когда я повторяю все то, что он мне рассказал, чтобы убедиться в том, что правильно его поняла, а заодно дать ему возможность самому услышать, что он сказал, это вызывает у него чувство стыда.
Мортимеру трудно говорить о чувствах, потому что он либо ничего не чувствует, либо не может подобрать слов для описания своих чувств. Он не любит обсуждать детство, потому что ему кажется, что это неблагодарно с его стороны. «Меня беспокоит сама мысль о том, что я могу быть несправедлив по отношению к родителям», – говорит он. Он понимает, что некоторые произошедшие с ним события были не очень хорошими, но не видит смысла говорить о них снова и снова. Он считает, что они не были настолько ужасными и поэтому не могли стать причиной его изматывающего состояния. Он так смущается, что только и может сидеть в своем кресле и сопротивляться работе с телом, да и вообще любым движениям.
В сущности, большинство методов, к которым я обычно прибегаю в терапии, в его случае неприменимы. Я бы описала сессию с Мортимером так: меня окружают закрытые двери, и пока я пытаюсь найти открытую, остальные захлопываются. Я думаю, что именно так он себя и чувствует – он постоянно ищет выход из сложившейся ситуации и никак не может его найти. Для меня это выглядит как ужасная пытка.
Норману было за пятьдесят, когда он пришел ко мне на терапию. Он работал высокопоставленным государственным служащим. Норман был холост и сам не понимал, почему так и не женился.
Он обратился за терапией, потому что ему было одиноко и он часто испытывал приступы депрессии, которые становились все сильнее. «Я уверен, что у меня просто кризис среднего возраста, – говорит он. – Но иногда моя жизнь кажется настолько пустой, что я просто не могу это больше выносить».
Мать Нормана умерла после затяжной болезни, когда он был совсем маленьким. В течение нескольких лет о Нормане заботились разные родственники, пока его отец снова не женился. После этого у Нормана появились несколько младших сводных братьев и сестер. Он говорит, что всегда чувствовал, будто ему нет места в этой семье, и сейчас почти не общается с ними.
Он трудоголик и привык подолгу работать, не оставляя времени на себя. В свободное время Норман посещает культурные мероприятия и много читает. Он приучил себя к одинокой жизни, решив, что от него нет никакой пользы для окружающих.
На терапии Норман поначалу пытается сделать мне приятно и усердно работает. Он хочет получать домашние задания, а также старается разобраться, что мы делаем и зачем. Он знает, что ранняя потеря матери травмировала его, однако не понимает, на что именно это повлияло и что с этим можно сделать.
Вскоре я понимаю, что после сеанса Норман зачастую уходит домой в глубоком унынии и с ощущением собственной безнадежности, а возвращение на терапию на следующей неделе кажется ему бессмысленным излишним стрессом. Когда я спрашиваю его, так ли это, он отвечает: «Я знаю, что разговоры обо всем этом должны помочь, и мне нравится это, пускай и недолгое, ощущение, будто кто-то обо мне заботится. Но после терапии, когда я возвращаюсь домой и снова остаюсь в одиночестве, я начинаю думать о том, чего не должен был говорить или что следовало сказать по-другому, и не могу остановить эти мысли».
Из его ответа мне становится ясно, что каждая сессия отбрасывает его в детство, туда, где, как ему казалось, кто-то о нем заботился, но потом вдруг перестал – и он отчаянно пытался понять, что должен был сделать иначе, чтобы этого не произошло. Этот простой вопрос позволил мне, во-первых, лучше узнать Нормана, а во-вторых, понять, с чем мы будем работать.
Оливия обратилась ко мне, чтобы проработать свои трудности в отношениях с мужчинами. Она выглядит успешной, очень умна, четко выражает свои мысли и хорошо себя понимает. Беседовать с ней одно удовольствие, и мне требуется довольно много времени, чтобы увидеть, насколько мало у нее ресурсов и как она уязвима перед стрессом.
Она рассказала, что мать отказалась от нее сразу после ее рождения, и вскоре девочку удочерила другая семья. Оливия выросла с приемной матерью, которая очень переживала из-за того, что не могла иметь собственных детей. Разумеется, девочка чувствовала ее боль. Оливия часто фантазировала о биологической матери – о том, как замечательно было бы ее найти, но этого так и не произошло.
В отношениях ей обычно кажется, что она недостаточно хороша – Оливия каждый раз ждет, что ее бросят. Из-за этого она занимает осторожную, иногда даже избегающую позицию, но при этом довольно послушна. Некоторые партнеры говорили о том, что их раздражает ее привычка за все извиняться.
Оливия страшно боится показаться навязчивой. Она живет в мире, где ей не рады, и поэтому чувствует, что должна быть благодарна за каждую мелочь, но при этом жаждет быть желанной и любимой. Несколько раз она встречала людей, благодаря которым могла почувствовать себя более желанной, однако это чувство быстро проходило, а попытки сблизиться с таким человеком до ужаса ее пугали. С каждыми новыми отношениями ей становилось все страшнее сближаться с другими. «Мне кажется, будто жизнь играет со мной в игру: как только я вижу что-то, чего бы мне хотелось, оно тут же от меня ускользает».
Ее избегание по отношению ко мне очевидно. Хотя мы регулярно проводим сессии, разговариваем, иногда рисуем, а иногда работаем с телом, я чувствую, что Оливия держит меня на дистанции. Поначалу я принимала это за высокомерие и надменность, пока однажды, когда мы говорили о стыде, она вдруг не сказала: «Каждый раз, когда я понимаю, что не подпускаю вас к себе, я чувствую себя высокомерной стервой и ненавижу себя за это. И хотя мне очень хочется перестать это делать, у меня не получается, как бы я ни старалась, и я не понимаю, почему. И от этого мне стыдно еще больше».
Как только мне удастся понять сложное устройство ее внутреннего мира, мы сможем начать исследовать дистанцию между нами.
Перл – измученная мать троих детей-подростков, которая работает учительницей в начальной школе и пришла на терапию из-за того, что ее отношения с 15-летней дочерью сильно ухудшились.
Она рассказывает, что дочь «совершенно отбилась от рук» и порой совершает бездумные поступки. Кроме того, она постоянно критикует мать и ведет себя агрессивно, особенно когда Перл проявляет свои материнские чувства. Это заставляет Перл чувствовать себя полной неудачницей: «Я чувствую себя неполноценной и мне стыдно за то, что у меня не ладятся отношения с дочерью».
Меня не удивило, что Перл страдает от насмешек и издевательств от коллег по работе, а ее стандартная реакция на критику заключается в том, что она прикладывает еще больше усилий, чтобы стать лучше. Личные границы у нее практически отсутствуют. «Я просто не могу отказать в помощи тому, кто во мне нуждается!» – восклицает она.
Признаки того, что ею пренебрегали в детстве, налицо: она первый ребенок, и семейная легенда гласит, что мать вернула ее акушерке, увидев, что родилась девочка. Несколько лет спустя у Перл появился младший брат, гораздо более значимый наследник. А чуть позже родился второй брат, который был таким обаятельным, что стал всеобщим любимчиком. Роль же Перл в детстве, похоже, заключалась в том, чтобы присматривать за младшими братьями.
Перл всегда была уступчивой и изо всех сил старалась быть «хорошей». То же самое она делала и на терапии, идеализируя меня и часто упоминая о том, как полезна для нее терапия. В то же время она последовательно отвергала любые мои попытки показать ей, как она могла бы лучше заботиться о себе, немного сместив баланс между заботой о себе и заботой о других. У нее всегда находились веские причины, почему она должна была позаботиться о ком-то другом.