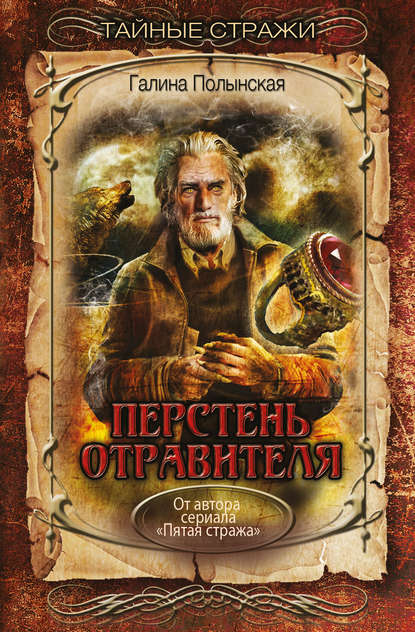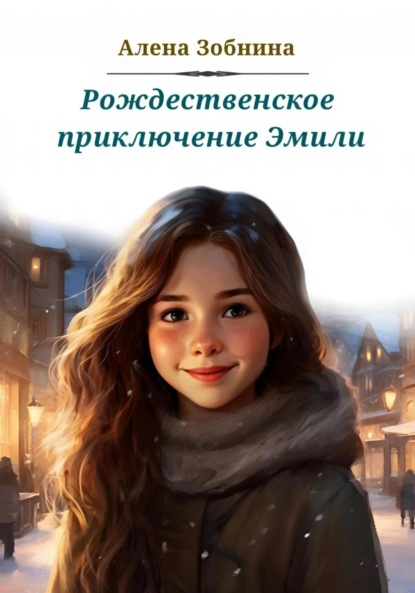Взрослая жизнь «невидимых детей». Психологическая работа с последствиями эмоционального игнорирования
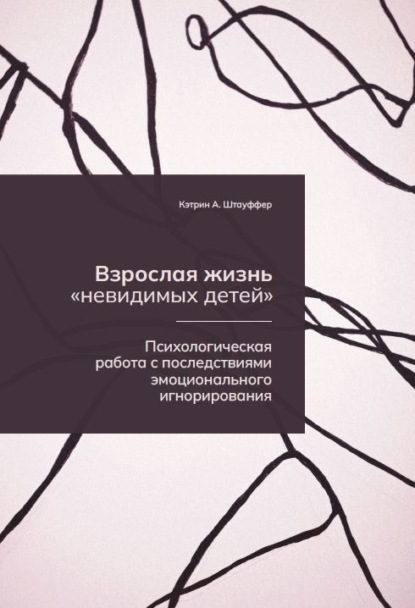
- -
- 100%
- +
Однажды я попыталась перевести разговор с некоего практического вопроса, о котором мы говорили, на более общий – о том, почему ей стоило бы лучше заботиться о себе – и сразу увидела, как ее беспокойство начало перерастать в панику. К сожалению, она не осмеливалась сказать мне, что воспринимает мой вопрос как давление, и если бы я не заметила панику в ее глазах, то упустила бы возможность поговорить с ней об этом. Я тут же отметила, что, кажется, сказала что-то не то, и это дало нам возможность обсудить, какие чувства в ней вызвал мой вопрос. «Я почувствовала, будто вы просите меня перестать заботиться о моих детях, но для меня это невозможно. Вы как будто попросили меня стать другим человеком. Я всегда старалась быть доброй и заботливой, и мне это нравится. Если бы я стала больше заботиться о себе, это наверняка кончилось бы тем, что я стала бы пренебрегать своими детьми – и эта мысль приводит меня в панику», – объяснила она.
Я начинаю понимать, что нападки со стороны дочери, о которой она так старается заботиться, кажутся ей нападками на саму ее копинг-стратегию, которую она с таким трудом выработала и в которой так остро нуждается.
Четырех моих клиентов объединяет история эмоционального пренебрежения в раннем детстве. Однако они выработали разные копинг-стратегии, для того чтобы с этим справиться. И хотя я признаю, что зачастую эмоциональное пренебрежение и насилие идут рука об руку, я намеренно выбрала клиентов без истории насилия в прошлом. В этой книге я хочу сфокусироваться исключительно на тех трудностях, с которыми сталкиваются клиенты с историей эмоционального пренебрежения. Я буду рассказывать о процессе терапии этих четырех клиентов на протяжении всей книги.
Внутренний мир человека с историей эмоционального пренебрежения
Родившись, дети переживают конец всей той жизни, которая была им известна в утробе матери. Удивительным образом они не цепляются за внутриутробную жизнь и не пытаются туда вернуться – напротив, они полностью ориентированы на то, чтобы обосноваться в новом мире. Как правило, новорожденные дети полны энергии и ищут контакта с тем, кто ими занимается. Установление зрительного контакта с любящей матерью или кем-то другим, кто заботится о ребенке, так же важно, как сделать первый вдох, научиться принимать пищу или привыкнуть к земному притяжению. Этот зрительный контакт дает новорожденному ребенку ощущение, что мир встречает его с радостью и любовью. Ребенку очень важно быть принятым таким образом в первые месяцы жизни, и если этого не произойдет, то он еще долго будет пытаться достичь этого ощущения.
Стать желанным гостем в этом мире означает получить первое и самое важное чувство – чувство, что тебя любят, которое будет поддерживать человека всю его жизнь. Большинство людей интуитивно понимают, как важно чувствовать эту любовь и видеть восторг в глазах смотрящего на тебя человека. Исследования с участием матерей и младенцев подтвердили это интуитивное понимание в середине XX века и показали, как важно для ребенка иметь отзывчивых, любящих и интересующихся им родителей или опекунов, которые способны видеть ребенка таким, какой он есть, и заботиться о его благополучии. Кроме того, они доказали, что рост связей в мозге зависит от контакта с ухаживающими взрослыми: от мимолетных взглядов между ними и ребенком, от агуканья и разговоров, которые покажутся бессмыслицей наблюдателю, но при этом будут абсолютно понятны родителю/опекуну и ребенку, от моментов близости и совместного удовольствия.
Ужасно, когда ребенок сталкивается с отвращением, гневом или насилием со стороны тех, кто о нем заботится. Однако не менее ужасно и пренебрежение, игнорирование и равнодушие. Если у ребенка доброжелательные и отзывчивые родители, он будет знать, что его любят и что он хороший. Он поймет, что нужно говорить о своих потребностях и желаниях, как, впрочем, и о том, когда ему некомфортно. Он узнает, что с людьми безопасно, и что ему хорошо, когда он с ними в контакте. Если же родители игнорируют младенца, у него не будет шанса научиться ничему из этого. Он будет жить в холодном и безразличном к нему мире, который не сулит ему ничего хорошего и на который он никак не может повлиять. Такой ребенок будет жить в страхе, потому что у малыша, о котором никто не заботится, высок шанс смерти. И если ребенка будут продолжать игнорировать, он так и будет жить в этом страхе.
Большинство людей, живущих в таком страхе, научаются его заглушать, отключаться от него, перестают его воспринимать, так что он перестает их калечить. Однако страх продолжает присутствовать в физическом теле и может проявляться по-разному: как беспричинная тревога, физическое напряжение или болезнь, застенчивость, фобии, ощущение усталости от общения с другими, избегание социальных и интимных отношений или просто стресс.
Притупление страха вкупе с нарушением привязанности в раннем возрасте часто приводит к тому, что человеку становится трудно воспринимать любые чувства. Такой человек может жить в тумане неопределенных чувств и эмоций, которые он не может ни описать, ни выразить, ни взять под контроль. Единственным спасением будут казаться размышления о них, в которых человек неизбежно застрянет из-за отсутствия контакта со своими чувствами. Попытки помочь человеку наладить контакт с чувствами могут вообще не сработать, а только усилят его страх и не приведут ни к чему хорошему. На самом деле такой человек страдает не от недостатка эмоций, как может показаться, а от их избытка – в частности, от постоянного сильного страха. Он не может ни обработать эти эмоции, ни тем более устранить, потому что ему совершенно непонятно их происхождение. Постепенно он, возможно, научится ими управлять, но это займет очень много времени.
Если человек не понимает, что произошло с ним в начале его жизни, он может никогда не понять себя и других. Время от времени он будет страдать от депрессии, а мир будет казаться ему ужасным и враждебным местом, выжить в котором можно только ценой очень больших усилий.
Человек, которого в детстве игнорировали, не понимает причину своих жизненных трудностей (в отличие, например, от человека, пережившего насилие, утрату или нечто подобное, который может сказать: «Со мной произошло то-то и то-то. Это повлияло на меня – и потому я такой»). У человека, которым пренебрегали, не всегда есть подобное объяснение, и из-за этого он может просто считать себя странным. Зачастую таких людей обвиняют в чудаковатости, в том, что они ведут себя «не как все», из-за чего они ужасно себя стыдятся.
Когда, уже будучи взрослыми, бывшие «невидимые дети» приходят на терапию, они производят впечатление глубоко травмированных людей, хотя при этом у них далеко не всегда есть история травмирующих событий в прошлом. По моему опыту, различить человека, пережившего насилие, и человека, которого игнорировали, не так просто – настолько они похожи (не говоря уж о том, что «невидимые дети» часто также подвергаются насилию того или иного рода).
Во время сеансов терапии у таких людей происходит несколько заметных эпизодов повышенного возбуждения. Терапия кажется им скорее скучной, чем пугающей или драматичной, и они будут чувствовать себя замороженными, застывшими. Зачастую такие люди кажутся оцепеневшими, будто живущими в тумане. В таком состоянии очень трудно облекать чувства в слова, а отсутствие слов мешает пониманию. Их сильный страх может быть совершенно неочевидным: в лучшем случае человек скажет, что встревожен, или проявит определенную степень навязчивости. Его самооценка будет, безусловно, чрезвычайно низкой – будто у него нет права занимать место в мире.
Такие люди могут стремиться заботиться обо всех вокруг, включая своего терапевта. Они считают, что постоянно кому-то мешают или даже вредят, и своей помощью пытаются избежать этого и не привлекать к себе внимание. Зачастую они также страдают от физических или психосоматических недугов.
Как правило, такие люди сильно сопротивляются терапии. Это может выражаться по-разному: например, они могут искать причины, по которым терапия не будет работать, или вести себя очень вежливо и стараться быть «хорошими» клиентами, но при этом сохранять дистанцию или обвинять себя в безнадежности. Терапевты, которые попытаются сломать сопротивление своих клиентов, обнаружат, что это не только не улучшает ситуацию, но может и усугубить ее. Наблюдательный терапевт поймет, что большая часть сопротивления клиента обусловлена его страхом, стыдом или и тем и другим – следовательно, попытка прорваться через сопротивление усилит эти чувства.
Для того чтобы понять, как устроены такие люди, необходимо отдавать себе отчет в том, как мало у них ресурсов, на которые они могут опираться. Зачастую это относится как к внутренним ресурсам, так и ко внешним. Что неудивительно – ведь все, благодаря чему жизнь большинства из нас становится лучше, в их случае крайне ненадежно. К примеру, отношения очень хрупки, потому что напрямую зависят от тех уз привязанности, что были сформированы в детстве. Им кажется, что они легко могут потерять то немногое, что у них есть, и каждая такая потеря чего-то жизненно важного для них – ужасный и травмирующий опыт. Каждый имеющийся у них ресурс имеет огромное значение, и потому они так тщательно их берегут. Каждая, пускай даже самая крошечная, потеря угрожает их безопасности. А поскольку безопасность – их главная забота, они будут «хорошими» и послушными детьми, а затем и не менее послушными взрослыми, если это обеспечит им безопасность.
«Невидимые дети» существуют в мире, где любое совершенное ими движение может угрожать их и без того нестабильной безопасности. Поэтому им хочется сжаться и поменьше двигаться, чтобы стать максимально незаметными – тогда их жизни ничего не будет угрожать. Движение, жизнерадостность, стремление добиться большего и стать заметным, спонтанным или импульсивным – все это кажется им крайне опасным. Как бы сильно они ни хотели такими стать, чаще всего у них не получается, и они завидуют людям, у которых нет с этим проблем. При этом понятно, что стратегия «замри», которую они бессознательно выбирают, никак им не помогает, а только обедняет их жизнь.
Для многих «невидимых детей» поход к терапевту кажется опасным приключением и попыткой изменить то, что изменить невозможно – а значит, они рискуют разочароваться. Однако если им удается почувствовать себя в безопасности в кабинете психотерапевта, они все же могут извлечь выгоду из терапии. Оптимальный вариант – это стабильные регулярные посещения, упорная работа со скромными результатами и медленный, комфортный для них темп изменений.
Крайне ненадежные привязанности, которые формируются у «невидимых детей», мешают терапевту увидеть, что происходит у них внутри на самом деле. Зачастую они отчаянно пытаются создать впечатление, будто у них все в порядке, а к терапии относятся равнодушно или даже пренебрежительно. Кроме того, им обычно требуется много времени, прежде чем они позволят себе чем-то возмутиться: они привыкли сдерживать свои эмоции, будь то радость или недовольство, чтобы не рисковать отношениями с родителями/ опекунами.
Копинг-стратегии «невидимых детей»
Расскажу о некоторых способах, к которым прибегают «невидимые дети», чтобы справляться с происходящим. При этом я уделю особое внимание различиям копинг-стратегий детей с разными типами личности.
Я обнаружила, что большинство «невидимых детей» используют многие, если не все, из этих копинг-стратегий, однако делают это по-разному, и обычно каждый из них склоняется к какой-то одной или двум из них. Таким образом, дети могут казаться абсолютно разными на первый взгляд, но на глубоком уровне имеют много общего.
Так, некоторые дети, пытаясь справиться с кажущимися им хрупкими узами привязанности, становятся чрезвычайно чувствительными к настроению окружающих, стараясь сохранить хотя бы то редкое ощущение близости и безопасности, которое у них есть. К сожалению, маленькие дети не могут быть так сильно сосредоточены на ком-то, не теряя при этом связи с собой. К тому времени, когда они становятся взрослыми, у них зачастую происходит слияние с другими людьми: их границы чрезвычайно слабые, а самоидентичность практически отсутствует. Как правило, они сговорчивы и уступчивы. Они очень проницательны, когда наблюдают за окружающими, однако окружающим их прочесть довольно трудно. Да и им самим тоже нелегко себя понять, распознать свои чувства и настроение – поэтому кажется, будто они жертвуют собой ради других, пытаясь понять их, а не себя. Они могут производить впечатление маленького ребенка, который отчаянно пытается понять настроение своих родителей, стремясь сделать жизнь более комфортной и делая это за счет собственного благополучия.
Такие дети очень одиноки. Они живут в мире, где никто их не понимает, не встает на их сторону и не пытается им помочь. Поэтому их копинг-стратегия заключается в том, что они привыкают к этому одиночеству и постоянно ищут хотя бы маленькие островки безопасности и предсказуемости в своем окружении.
Поскольку в раннем детстве у них не было взрослого, который научил бы их регулировать чувства и эмоции, они плохо умеют это делать и потому обычно полностью сосредоточены на поиске безопасности, стабильности и спокойствия во всех сферах жизни – и видят это единственной своей целью. При этом им даже в голову не приходит, что можно обеспечивать свою безопасность самостоятельно – они полностью зависят от окружающих. Я знаю множество примеров того, какую чудовищную цену платят эти люди за крошечную толику безопасности в отношениях. А поскольку уровень тревоги у них крайне высок уже в детстве, они чрезвычайно уязвимы к стрессу, связанному с выполнением внешних требований, и из-за этого им может казаться, что они не способны ни в чем добиться успеха.
Пытаясь справиться со стрессом и неуверенностью в себе, они сжимаются, стараются казаться маленькими и не привлекать к себе внимания. Такие люди будут тихими и застенчивыми, уступчивыми, прилежными и чрезмерно адаптивными из-за низкой самооценки.
В интимных отношениях они никогда не отстаивают свои права, а целиком подчиняются партнеру. Порой в попытках заслужить любовь и заботу они ведут себя как дети, ощущая, будто все вокруг гораздо старше, чем они. Они также могут чувствовать, что сильно зависят от других, буквально сливаются со своим партнером и не умеют опираться на самих себя. На терапию они, вероятнее всего, придут с проблемами, связанными со стрессом и тревогой или с проблемами в отношениях.
Приведу в пример Мортимера, использующего такую копинг-стратегию.
Кажется, что он стремится уменьшиться всеми возможными способами, чтобы занимать как можно меньше места в этом мире. Он одновременно и боится окружающих людей, и все же надеется установить с ними хорошие отношения. Это очень заметно в кабинете психотерапевта: хотя Мортимер очень закрыт и внутренне сопротивляется терапии, он никогда не пропускает сеансы и обычно приходит за несколько минут до назначенного времени.
Мортимер невероятно чутко реагирует на настроение важных для него людей и зачастую, пытаясь прочесть другого человека, перестает понимать, что чувствует он сам. Из-за того, что его личные границы нарушены, на ранних стадиях терапии ему страшно некомфортно.
Он много раз говорил мне, как не любит привлекать к себе внимание или выделяться. Когда люди смотрят на него, ему кажется, будто его пристально изучают, чтобы потом разоблачить, – это пугает его, и он буквально умирает от стыда в такие моменты.
Другой вариант копинг-стратегии – решение ни в чем не нуждаться. Ведь нуждаться в чем-то и не получить этого – очень болезненный опыт. Люди, избравшие такую стратегию, стремятся быть независимыми и уверенными в себе, а повзрослев, не особенно нуждаются в других и могут стать одиночками. Они начинают избегать окружающих, если те попытаются достучаться до них, потому что подобный контакт для них обременителен. Я считаю очень удачным описание таких людей как «притаившихся» (Shapiro. 2009). Иногда они пропускают сеансы, а если и приходят, то, вероятнее всего, только потому, что чувствуют себя подавленными, жизнь кажется им лишенной смысла или они жаждут большего контакта, чем доступен им в настоящий момент. К терапии их также могут подтолкнуть физические симптомы болезней.
Пример человека с такой копинг-стратегией – это Норман, одинокий и депрессивный клиент. Его случай иллюстрирует, что попытки заглушить боль могут заставить поблекнуть все остальные чувства, включая радостные. Теперь у него есть только огромная дыра внутри – и это поистине огромная цена, которую ему приходится платить за свой выбор.
Его страх перед другими людьми гораздо слабее его тоски по отношениям, которые он однако себе запрещает, предположительно, из-за очень травмирующей потери в раннем возрасте. В каком-то смысле Норман дальше от здоровой «нормы» по сравнению с Мортимером: он приучил себя быть таким покорным, что больше ни к чему не стремится и даже не пытается получить желаемое.
С другой стороны, копинг-стратегия Нормана кажется во многом эффективнее стратегии Мортимера: большую часть времени Норман не испытывает страданий и потому живет в убеждении, что «разобрался со своими проблемами». До тех пор, пока ему удается справляться со своими депрессией и одиночеством, его копинг-стратегия вполне работает. Ему удалось добиться определенного успеха в профессиональном плане и создать репутацию человека, который вполне приспособлен к жизни. Из-за этого ему гораздо труднее понять, что с ним не так, а терапевту требуется время, чтобы увидеть, насколько он на самом деле хрупкий за своим стоическим фасадом.
Многие «невидимые дети» изо всех сил пытаются просто быть нормальными. Если они изначально умны и наблюдательны, им вполне может удаваться не выделяться и быть как все. При этом ни окружающие, ни даже они сами не будут догадываться, насколько они тревожные и неуверенные в себе по сравнению со сверстниками и как часто они стыдятся самих себя. В результате они могут обратиться за терапией, потому что их настигнет кризис, и они поймут, что им чего-то не хватает, что где-то внутри них – дыра. Как правило, они страдают от низкой самооценки, чрезмерной чувствительности или выгорания. Такие люди зачастую получают не подходящую им терапию, потому что терапевты ошибочно принимают их за высокофункциональных людей и ожидают от них быстрых изменений. Также терапевты по незнанию могут прибегать к методам, которые только вызовут у клиента сильнейший стыд и не приведут ни к какому терапевтическому результату.
Оливия – пример обладателя такой копинг-стратегии. С ней я с самого начала говорю о стыде, потому что это ключевая для нее тема. Она стыдится, потому что ей кажется, что она не «нормальная», и она не понимает, почему не может «просто с этим смириться», как все остальные. Такие клиенты не совсем похожи на «невидимых детей», и терапевту нужно быть очень внимательным, чтобы заметить наличие постоянного жгучего стыда, который может сигнализировать об эмоциональном пренебрежении в истории жизни клиента.
Жизнь Оливии кажется очень сбалансированной и организованной: все должно быть именно так, как она задумала, а каждый ресурс должен быть использован по максимуму. Когда она рассказывает о своей повседневной жизни, становятся очевидными хрупкость созданного ею мира, те огромные усилия, которые она затрачивает на поддержание видимого благополучия, и глубокие страдания, таящиеся под этим.
Другие в очень раннем возрасте научаются опосредованно удовлетворять некоторые из своих потребностей через заботу о других. Такие люди могут выбрать профессию, связанную с уходом за другими людьми. Обычно они обращаются к терапевту с выгоранием или гневом/обидой, вызванными ощущением, что они слишком много отдают и мало что получают взамен.
Я выбрала Перл, чтобы показать этот тип копинг-стратегии. Для Перл характерно, что за ее самопожертвованием скрываются не столько обида и чувство вины, сколько страх и паника. За ним также может прятаться жажда власти и контроля, однако главная ее цель – достичь безопасности в отношениях, а вовсе не получить удовольствие от ощущения собственного всемогущества. Перл одновременно и боится других людей, и хочет получить от них что-то хорошее – поэтому она всецело посвящает себя заботе о других. За чужими страданиями она не видит своих, оставаясь уверенной в себе и не замечая собственной разочарованности в жизни.
Но время от времени в ней все же пробивается ощущение, что ей нет места в этом мире, что она здесь лишняя. Это ощущение формирует основу ее неуверенности, которая проявляется во всех сферах жизни. У нее крайне низкая самооценка, размытые личные границы, очень высокий уровень тревоги при конфликтах (на то, чтобы оправиться от них, ей требуется очень много времени). Ощущение, что она недостаточно хороша, проявляется во всем и страшно огорчает ее практически ежесекундно.
Итак, я выделила четыре типа копинг-стратегии «невидимых детей». Я основывалась на наблюдении, что разные люди выбирают разные копинг-стратегии, и привела типы стратегий в порядке возрастания их адаптивности, однако не вкладывала в них какой-либо глубокий смысл – я выбрала их, чтобы показать, что взрослые, которыми пренебрегали в детстве, могут проявлять разные симптомы.
Бремя стыда
Стыд играет основополагающую роль в жизни «невидимых детей». Часто они чувствуют, будто за социально приемлемым фасадом скрывается человек, которого они в какой-то степени стыдятся показывать. Этот человек может быть слабым, уязвимым, жадным, глупым, эгоистичным, высокомерным, отвратительным, импульсивным, озлобленным или каким-то другим, но неизменно постыдным и ущербным. Большинство учатся жить с этим чувством и понимают, что не умрут от стыда, если окружающие увидят проявления этого внутреннего человека. В какой-то момент они даже могут обнаружить, что для того, чтобы создать близкие отношения, полезно довериться партнеру и позволить ему увидеть эти проявления.
Но в детстве «невидимый ребенок» испытывает из-за этого разрушительный, подавляющий и всепоглощающий стыд. Ему может быть стыдно за все что угодно, и этот стыд отражает отношение к ребенку его родителя или опекуна. «Невидимому ребенку» может казаться, что он отвратительный, жадный или просто «какой-то не такой», – словом, он ощущает нехватку какого-то важного человеческого качества. Ребенок будет настолько стыдиться себя, что даже его личность и душа будет казаться ему постыдными.
Он будет стыдиться того, что не может полностью скрыть свое «позорное Я». Того, что он тревожится и не уверен в себе. Того, что не любит шумные и довольно агрессивные игры, которые любят другие дети. Ему будет стыдно осознавать, что ему не нравится ходить в клубы и на вечеринки, которые принято любить. Будет стыдно от того, что он заторможенный, социально неуклюжий и не способен легко заводить друзей. Стыдно заслужить ярлык «интроверта» или «социофоба»…
И вдобавок ко всему этому ему будет стыдно, что он не может просто взять и измениться. «Невидимые дети», как правило, живут с ощущением, что постоянно себя подводят, и винить в своих несчастьях, кроме себя, им некого. Таким образом, у их стыда есть несколько слоев, которые накладываются друг на друга и образуют глубокое, токсичное чувство, с которым они не могут справиться.
Я заметила, как Оливии стыдно за то, что она не может позволить мне к ней приблизиться. Однако это только верхний слой, за которым скрывается стыд за внутреннюю необходимость извиняться перед партнером из-за ощущения, что она не такая, как все. Еще один слой стыда связан с ощущением собственной неполноценности, за которым скрывается следующий слой стыда – из-за чувства, что она никому не нужна. У нее есть даже отголосок стыда, который испытывала ее мать, когда забеременела, не будучи в отношениях с отцом ребенка.
Мортимер также часто испытывает стыд. Его стыд больше связан с тем, что ему кажется, что он разочаровал родителей и ничего не добился в этой жизни. Однако, поскольку глубоко внутри он на самом деле довольно амбициозен, его унижает и необходимость ходить на терапию, и большинство моих вмешательств, которые, как ему кажется, указывают на его недостатки. Его идея: «Я должен был давным-давно сам в этом разобраться» продолжает наполнять его стыдом и является серьезным препятствием для прогресса в терапии. Таким образом, наша задача – отделить его здоровые и ориентированные на развитие амбиции от стыда и зависти к другим.
Я уже писала о Перл, которая испытывает стыд из-за своих недостатков и неспособности быть лучшей матерью. Более того, она постоянно оказывается перед дилеммой: ей стыдно за то, что она не заботится о себе, но при этом если она начнет о себе заботиться, ей будет стыдно, потому что тогда, как ей кажется, ее будут считать эгоисткой. Наша первостепенная задача – сделать так, чтобы эта дилемма перестала давить на нее так сильно. Однако ее стыд простирается еще дальше: она думает, что если бы она была «нормальным человеком», то давным-давно бы уже с этим разобралась и заботилась бы и об окружающих, и о себе. И это является дополнительной причиной для стыда.