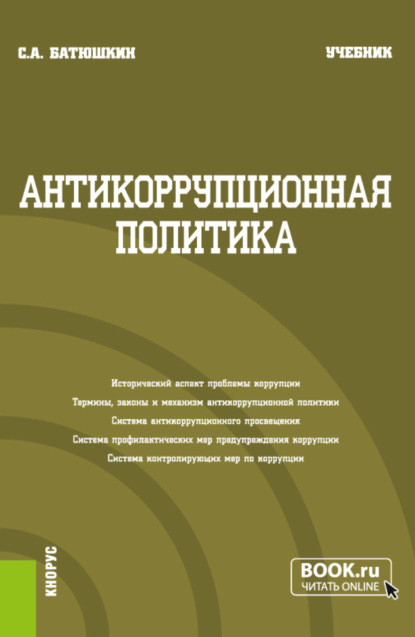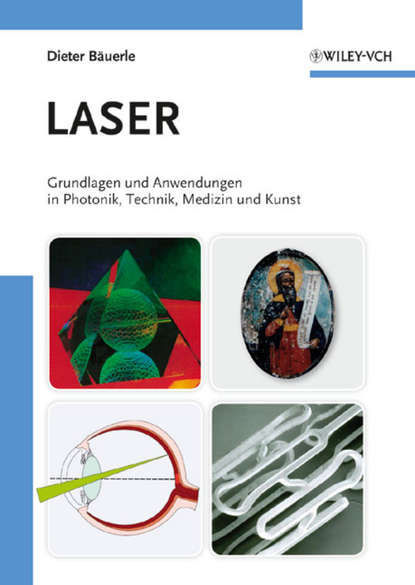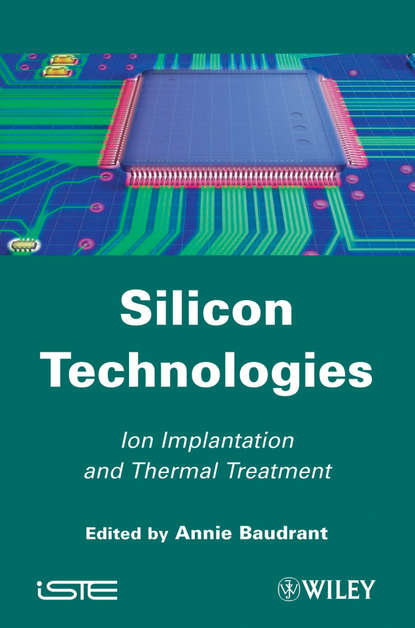Взрослая жизнь «невидимых детей». Психологическая работа с последствиями эмоционального игнорирования
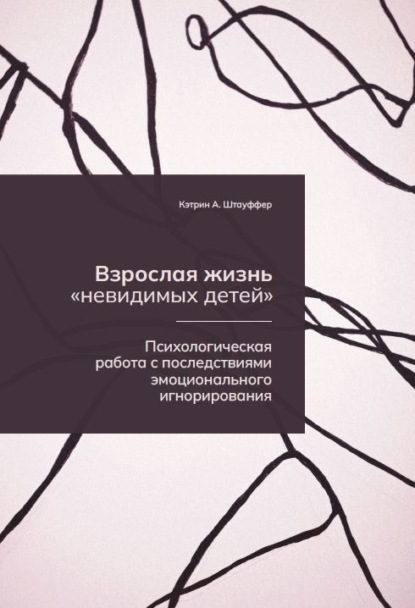
- -
- 100%
- +
Норман среди этих клиентов кажется наименее подверженным стыду. Выбранный им образ жизни, при котором он в основном избегает контактов с окружающими, по большей части избавил его от необходимости испытывать стыд. Его признание в том, что после сессий он думает о них в неприятном ключе, наводит меня на мысль, что стыд все же прячется глубоко внутри и что, изолируясь от мира, он таким образом платит высокую цену за иллюзорное отсутствие этого стыда. Дальнейшие сеансы подтверждают мое предположение.
«Невидимые дети» живут с ощущением, что их в любой момент могут раскритиковать и пристыдить. Вполне возможно, что такое с ними уже случалось, – быть может, их травили в школе либо у них были чрезмерно критичные родители, учителя или другие авторитетные фигуры. Вырастая, «невидимые дети» часто вступают в отношения с критичными или абьюзивными партнерами. Однако даже когда их никто не критикует, и они живут в относительно благоприятной среде, страх позора никуда не уходит. Им может казаться, что только благодаря самокритике их по-прежнему считают хорошими людьми и они чувствуют себя в относительной безопасности. Можно предположить, что эта привычка критиковать себя открывает нам окно во внутренний мир очень маленького ребенка, который был вынужден из соображений безопасности создать внутреннего родителя. Эта фигура преждевременно сформировавшегося внутреннего родителя будет почти неизбежно до крайности суровой и критичной.
Для того чтобы предотвратить возможную критику извне, «невидимые дети» тратят невероятное количество времени и сил на самокритику, а также на тщательное изучение своего поведения и своих действий в попытках понять, за что их потенциально могут раскритиковать или пристыдить. Поэтому во время терапии у них может возникнуть ощущение, что проблема заключается именно в этой склонности постоянно себя критиковать: ведь самокритика, как известно, порождает неуверенность, недостаток самоуважения, низкую работоспособность, застенчивость и т. д. Они могут попытаться исправить положение, обратившись за когнитивной терапией, которая отлично работает с проблемами самокритики и низкой самооценкой. Но, к сожалению, как правило, они обнаруживают, что такая терапия им не помогает.
Терапевтические подходы, основанные на способности человека меняться по своему желанию, почти наверняка не сработают в случае с «невидимыми детьми» – поскольку, как я уже говорила, самокритика им необходима для того, чтобы чувствовать себя в безопасности (однако сам человек об этом, конечно, не знает). Поэтому на сеансах с когнитивным терапевтом они, скорее всего, попросту не смогут сделать того, чего от них будут ждать, что только добавит очередной слой стыда к и без того огромному грузу, который им приходится постоянно на себе носить.
С другой стороны, люди, вынужденные предотвращать любую внешнюю критику, могут почувствовать себя успешными, когда перестанут подвергаться внешним нападкам. Они могут решить, что достаточно усовершенствовали свою защиту, изучая себя и свои действия, и теперь готовы представить миру идеальную версию себя, которую больше никто не подвергнет критике. Такие люди могут искренне не понимать, почему жизнь кажется им тяжелой работой и почему они большую часть времени измотаны, будучи не в силах увидеть, что от страданий самокритики избавляет не собственное совершенство, а доброта к себе. В любом случае тот факт, что взрослые, которых игнорировали в детстве, продолжают ожидать от мира позора и деструктивной критики, говорит о том, до какой степени они травмированы своим опытом раннего пренебрежения.
Таким образом, стыд является практически непреодолимым препятствием для психотерапии с «невидимыми детьми». Скорее всего, каждое терапевтическое вмешательство, каждый комментарий и смех терапевта будут восприниматься как критика, выявляющая недостатки клиента и потому вызывающая у него еще больший стыд. Я не думаю, что существует некий универсальный способ обойти стыд и избежать этого почти неразрывного сплетения терапии и чувства унижения. Люди, испытывающие такой стыд, отчаянно нуждаются одновременно в двух вещах: во-первых, чтобы им сказали, что с ними все в порядке (это облегчит чувство стыда, но не прибавит ощущения безопасности), а во-вторых, чтобы им помогли если не стать лучше, то хотя бы понять, что с ними не так (это усугубит стыд, но зато может привести к большей безопасности). В сущности, таким людям постоянно приходится справляться с огромным чувством стыда, при этом не отказываясь от терапии.
В своей работе с «невидимыми детьми» я из раза в раз убеждалась, что они очень привязаны к своему Внутреннему Критику, каким бы жестоким он ни был, ведь он – фактически единственный внутренний опекун, который им доступен. Осознание этого каждый раз разбивает мне сердце.
Привязанность к Внутреннему Критику является одним из факторов, которые замедляют терапевтический процесс и могут вызвать нетерпение и разочарование у терапевта. С другой стороны, понимание того, что Внутренний Критик – это просто неуклюжая попытка создать Внутреннего Родителя (причем попытка очень маленького человека, у которого нет знаний или навыков для того, чтобы создать более сложного родителя), часто помогает терапевту продолжить работу, а клиенту – взглянуть на своего Внутреннего Критика не только через призму страха и отвращения, но и через сострадание и доброту.
Как известно любому психотерапевту, части личности, неподконтрольные человеку, практически невозможно как-либо изменить. Поэтому единственное, на что можно рассчитывать, – это достичь с ними перемирия. Тогда появится надежда на рост и улучшение психического благополучия.
Так же обстоит дело и со стыдом. Как только он перестает вызывать у клиента ужас, отвращение или чувство унижения, он становится чем-то более понятным, чему можно дать название, о чем можно говорить и разглядывать со всех сторон. И клиент может «показать» свой стыд терапевту. И хотя стыд нельзя разрядить посредством такого катарсического выражения, как гнев или горе, он постепенно рассеется сам, когда вступит в контакт с человеком, который не осудит, а примет его. Звучит очень просто, но на деле это не так, поскольку противоречит здравому смыслу: ведь человек, которому стыдно, интуитивно хочет скрыть свой стыд и его причину. Поэтому для того чтобы раскрыть свой стыд другому человеку, требуется огромное мужество.
Влияние особенностей развития клиента на процесс психотерапии
Всех людей, переживших эмоциональное пренебрежение в детстве, объединяет сильное сопротивление терапевтическим изменениям. Отчасти это объясняется чувством стыда, о чем я рассказывала выше. В этом разделе я попытаюсь осветить другие способствующие этому факторы.
Из-за того, что родители/опекуны не обращают внимания на потребности детей, те быстро учатся заботиться о себе самостоятельно. У многих «невидимых детей» эта вынужденная автономность дает толчок интеллектуальному развитию. Как правило, такие дети умны и с раннего возраста используют интеллект для того, чтобы выработать свою стратегию выживания (в том числе научиться справляться с безжалостной внутренней критикой, которая в некоторой степени помогает им избегать атак стыда). Они могут получать удовольствие от понимания того, насколько они сообразительны, и интеллект их развивается семимильными шагами. Однако научиться справляться со своими чувствами и эмоциями в одиночку гораздо сложнее, ведь в норме это происходит в контакте с другими людьми. Поэтому отчасти стыд «невидимых детей» – это результат самостоятельного изучения своих чувств в одиночестве. Одиночество придало им оттенок секретности и стало вызывать стыд.
Мы учимся справляться со своими чувствами и эмоциями очень рано, еще до того, как овладеваем речью и сознательным мышлением. При этом любой навык, связанный с обработкой чувств, требует, чтобы человек находился в контакте со своим телом, потому как чувства и эмоции неотрывно связаны с физическим телом и его процессами. Как правило, у «невидимых детей», научившихся подавлять свои страхи, не очень хороший контакт с телом, что еще больше препятствует их эмоциональному развитию.
Таким образом, вероятность того, что «невидимые дети» вырастут с отставанием в эмоциональном развитии, весьма велика. Одним из последствий этого будет привычка человека крепко держаться за то, что у него есть, и страшно бояться всего, что чревато даже небольшой потерей. Про такого человека скажут, что он почти никогда не рискует и упорно сопротивляется любым переменам.
Иногда терапевты, работающие с такими клиентами, пытаются объяснить им причины такого сопротивления и убедить отказаться от него. По моему опыту, это почти никогда не срабатывает – человек настолько искренне напуган тем, что произойдет, если он изменится, что подобный вызов со стороны терапевта неизбежно напугает его и пристыдит еще больше. Для того чтобы такое вмешательство сработало, у клиента должно быть достаточно крепкое эго, которое бы объединяло его «чувствующее» (возможно, более молодое) Я и «думающее» (более взрослое) Я, и тогда ощущение «здесь и сейчас» сможет служить вместилищем для их примитивного страха. У «невидимых детей» связь между двумя этими частями личности очень слабая, а порой они даже враждуют между собой. Поэтому у такого ребенка не разовьется прочная основа мышления, которая бы подкреплялась чувствами и могла бы сдержать его страхи. Образно говоря, у него не будет Внутреннего Взрослого, который мог бы взять Внутреннего Ребенка за руку и присмотреть за ним.
Многие «невидимые дети» живут в состоянии внутренней нищеты: они обходятся крайне малыми запасами ресурсов и чувствуют, что в их жизни нет почти ничего хорошего. Обычно у них мало друзей или их нет вообще, возможно, один-два человека, которые хоть как-то близки. Им может казаться, что увеличивать количество хороших вещей в их жизни небезопасно по нескольким причинам:
– они могут считать, что не заслужили больше хорошего;
– они могут опасаться потерять что-то из того, что у них уже есть (иными словами, следуют принципу «лучшее враг хорошего»);
– они могут чувствовать себя совершенно незащищенными и бояться, что все хорошее отнимут или испортят завистливые, враждебно настроенные люди.
Поэтому когда у «невидимого ребенка» в терапии происходит прогресс и ему открываются новые ресурсы, он иногда становится еще более тревожным – со стороны даже может показаться, что ему становится хуже.
Кроме того, эта внутренняя нищета часто связана с ощущением, что мир полон невыполнимых требований. Вместо того чтобы воспринимать трудности, выпадающие на пути, как возможность развития, как дополнительную мотивацию и вызов, на которые нужно решиться, «невидимые дети» видят их как горы, на преодоление которых у них не хватает возможностей. Поэтому они сдаются, смиряются с тем, что ни на что не годны, и испытывают еще больший стыд.
Разумеется, терапия тоже может казаться им чем-то невыполнимым. Терапевты должны понимать, что любую задачу для таких клиентов нужно дробить на более мелкие – тогда они будут казаться клиентам достаточно безобидными для того, чтобы с ними справиться. Это, конечно, сильно замедляет процесс терапии. Однако в случае с такими клиентами важно видеть не столько общий прогресс, сколько их успехи в преодолении небольших проблем – они помогают обрести мотивацию, которая, несомненно, пригодится им при работе с предстоящими более масштабными задачами.
Однажды Мортимер сказал мне, что хотел бы, чтобы я меньше его щадила и ставила перед ним более сложные задачи. Ему казалось, что терапия пойдет гораздо быстрее, если ему придется напрягаться немного больше. Кроме того, он думал, будто я его «балую», как это делала его мать. У меня сложилось впечатление, что эта просьба исходила от его суперэго, которое всегда было чересчур жестоким по отношению к маленькому мальчику, выросшему в непонятном, холодном и неприветливом мире.
Эта склонность Мортимера ставить перед собой нереалистичные задачи была мне уже знакома. В этих случаях он всегда исходил из желания решить эти задачи, а не из понимания себя и своих возможностей.
Я решила обсудить с ним его отношения с трудностями и сказала, что понимаю его желание поскорее получить прогресс, но хочу быть уверенной в том, что он сможет справиться со следующей задачей и испытать от этого некоторое удовлетворение. А затем объяснила, что ощущение успеха является важным средством в терапии.
Сперва он посчитал мои слова оскорбительными и принижающими достоинство и начал со мной спорить. Он сказал, что «подтасовка» задачи портит ощущение успеха. В итоге у нас состоялся об этом долгий разговор: может ли он позволить себе испытывать приятное чувство от того, что справился с проблемой? И тогда он начал понимать, что у него действительно есть выбор и что не портить себе ощущение успеха – это хорошая задача, которую ему стоит перед собой поставить.
Я поделюсь с вами еще одним терапевтическим соображением. Многие психологические теории говорят о том, что тревожные клиенты страдают от внутренних конфликтов между их спонтанными импульсами и более рефлексивной, основанной на эго частью личности, – и что как только эти конфликты будут названы и исследованы в контексте отношений, клиенты смогут излечиться. Однако клиенты с большей недостачей жизненного потенциала могут, во-первых, испытывать беспокойство, которое не связано с внутренними конфликтами. Во-вторых, если внутренние конфликты все же имеются, то, начиная их исследовать, мы довольно быстро обнаруживаем, что клиенты не могут сдвинуться с места из-за недостаточного количества внутренних ресурсов.
Большинство классических психотерапевтических вмешательств были разработаны для тех клиентов, чья основная проблема заключается во внутренних конфликтах. Поэтому нам необходимы новые терапевтические подходы для работы с людьми, которые просто не чувствуют себя в этом мире в безопасности.
Возможны и другие причины замедления терапии. Например, иногда клиент просто не выдерживает улучшения, и ему становится хуже после достижения прогресса в терапии (этот феномен называют негативной терапевтической реакцией (Freud. 1962).
По моему опыту, в ранней жизни клиентов часто присутствуют враждебно настроенные, завистливые или просто люди с малым количеством внутренних ресурсов: например, мать, которая после рождения ребенка чувствует себя настолько опустошенной, что любое внимание, которое она ему уделяет, кажется ей отобранным у самой себя, вследствие чего возникает ужасная конкуренция между ней и ребенком. Нехватка психологического блага (внимания или любви) в этом случае выступает причиной конфликта: поскольку и для матери, и для ребенка получение любого блага неизбежно означает, что они отбирают его у другого, оба будут находиться в постоянном конфликте. Таким образом, конфликт будет поддерживать дефицит, и наоборот.
Я уже упоминала о серьезной дилемме Перл. Выяснилось, что, когда она родилась, ее мать была слишком озабочена собственным несчастливым браком и множеством неудовлетворенных потребностей. Поэтому рождение Перл вызвало у нее ревность, потому что малышке доставались любовь и забота, в которых так нуждалась она сама.
Перл вспоминает фразы, которые она слышала в детстве от матери: «Я не понимаю, почему тебе должно быть лучше, чем было мне», «Ты не знаешь, что такое настоящее страдание» и «Если я дам тебе то, что ты хочешь, то избалую тебя». Перл согласна со мной в том, что все они исходили из чувства зависти. Обсуждение таких воспоминаний помогает Перл добиться прогресса и понять, почему ей так сложно сделать для себя что-то хорошее.
Клиенты, которых игнорировали в детстве, описывают всевозможные последствия этого, с которыми они сталкиваются на протяжении всей своей жизни. Одно из наиболее распространенных последствий – отсутствие веры в то, что мир поможет им удовлетворить свои потребности или справиться с чувствами. Когда ребенку хватает внимания со стороны родителей, подобное ощущение ему незнакомо, потому что если он, например, говорит, что ему страшно, то рядом оказывается взрослый, который его успокаивает. Но если ребенка игнорируют, в такой ситуации поблизости не оказывается взрослого, или этот взрослый слишком занят собой и совершенно недоступен для ребенка, или не понимает, что говорит ребенок и в чем он нуждается, или просто не считает, что ребенок заслуживает какой-либо помощи. Кроме того, взрослый сам может быть так напуган страхом ребенка, что в результате ребенку придется успокаивать взрослого. В любом случае такому ребенку становится сложно обращаться за помощью или поддержкой – и в дальнейшем это будет еще одним фактором, тормозящим прогресс в терапии.
Нам часто приходится приносить что-то в жертву и отказываться от прежних привычек и образа жизни, чтобы стать более зрелыми и взрослыми. Однако для «невидимых детей» такое развитие может оказаться невозможным, потому что отказ от чего-либо повергает их в непреодолимый ужас тотальной утраты, полного уничтожения. Для терапии это значит, что с клиентом нужно поработать над созданием новых ресурсов, прежде чем можно будет подумать об изменении привычных, но неадекватных способов функционирования. При этом надо иметь в виду, что у многих клиентов будет наблюдаться реальный страх выздоровления, и иногда они даже будут говорить о том, насколько он им выгоден и полезен. Я считаю, что к такому страху нужно относиться серьезно и рассматривать его как страх потери контроля (пускай и очень малого) над тем, что есть у клиента и от чего ему, возможно, потребуется отказаться. С точки зрения психологии развития мы не сможем отказаться от чего-то важного до тех пор, пока не овладеем, не насладимся и не присвоим это. Если не установить связь на одной из стадий развития, то уже не получится в нее полностью погрузиться, а значит, не будет возможности от нее отказаться. Жизнь многих «невидимых детей» укладывается в это описание.
Компульсивная забота
Компульсивная забота – один из наиболее адаптивных способов справиться с игнорированием, поэтому я посвящаю этой теме отдельный раздел.
Для детей, которыми пренебрегают, чьи потребности не удовлетворяются и которые уже даже и не ждут, что это случится, забота о других – это чрезвычайно изобретательная копинг-стратегия. Так, озабоченная, подавленная или по какой-либо другой причине эмоционально недоступная мать может стать дружелюбнее и нежнее, если ребенок удовлетворит некоторые из ее потребностей или, по крайней мере, скорректирует свое поведение, чтобы свести беспокойство матери к минимуму. Кроме того, способность заботиться о других придает ребенку силы и ощущение собственной «хорошести». Делая что-то для другого, он уже не чувствует себя таким маленьким и незначительным. Ребенок также может опосредованно почувствовать счастье человека, о котором заботятся, хоть это и совсем не то же самое, что ощутить заботу на себе. Наконец, забота – это способ исправить чью-то ситуацию, сделать ее лучше той, что была у ребенка: он слишком хорошо знает, как может ранить равнодушие, поэтому никогда не поступит так с другим человеком. И хотя эта последняя мотивация может существовать только в бессознательном, она тем не менее бывает чрезвычайно мощной.
Забота о других отвлекает ребенка от его собственных горестей и постоянного чувства опустошенности. Такая забота действительно может наполнять, несмотря на то, что на самом деле ничего из того, что ребенок дает другому, он не может получить для себя. И это дает дополнительную мотивацию, потому что ребенок чувствует себя альтруистом и хорошим человеком. Кроме того, он ощущает себя нужным и полезным, что многим кажется приятнее, нежели чем чувствовать себя любимым.
Боль не исчезает, но притупляется, и ребенок, выбравший эффективную копинг-стратегию, может сформироваться как личность, которая незаменима для других, что даст ему право иметь место и цель в жизни. Это позволяет «невидимым детям» участвовать во многих важных событиях и не чувствовать себя такими изолированными. Помимо этого, такая забота может отчасти удовлетворить их социальные потребности и закрыть часть потребности в привязанности.
Перл – яркий пример человека с такой копинг-стратегией. Характерно, что она обратилась за терапией вовсе не из-за своей компульсивной заботы, а из-за нападок своей дочери. При этом именно чрезмерная забота Перл о других людях вызывает эмоциональное выгорание – ее копинг-стратегия перестала быть эффективной и привела ее на поле битвы, где она постоянно на грани поражения. И когда ее привычный способ жить рушится, она чувствует, что у нее больше ничего не осталось и ей некуда обратиться. Кажется, что сама ее личность находится под угрозой. В начале нашей с ней совместной работы она действительно находится в глубоком кризисе.
Некоторым людям компульсивная забота позволяет почувствовать себя могущественными и способными контролировать окружающий мир. Люди ощущают себя сильными: они почти герои, которые всегда справляются с кризисом, они скала, на которою любой может опереться в беде. И хотя они по-прежнему могут чувствовать нужду и ужас других людей, это все же не их чувства, а чужие – именно это позволяет им с ними безопасно взаимодействовать и находить способы помочь. Некоторые люди, которых в детстве игнорировали, впоследствии выбирают помогающие профессии, в том числе профессию психолога.
Такие люди чувствуют крепкую связь со страданиями других людей, потому что хорошо их понимают («раненые спасатели»). В процессе помощи они полностью отключаются от своих собственных страданий до такой степени, что готовы пойти на многое, чтобы убедиться в том, что это чужие страдания, а не их собственные. Способность эффективно помогать другому будет в любом случае зависеть от возможности человека держать в уме как свои страдания, так и страдания другого, но при этом разделять их, воспринимать разницу между собой и тем, кому они хотят помочь. Кроме того, это также будет зависеть от отношения помогающего к своим силам и от того, насколько хорошо он проработал этот вопрос в собственной терапии.
Основная проблема такой копинг-стратегии заключается в том, что за внешним состраданием и желанием помочь в человеке остается хорошо скрытое ощущение пустоты, незамеченности и ненужности. Многие компульсивные «спасатели» знают, что эта сердцевина по-прежнему с ними, и воспринимают компульсивную заботу о других как ложное Я. В результате человеку трудно или даже невозможно принимать признание, любовь и благодарность, в которых он нуждается и которые заслуживает за свои усилия. Вместо этого положительную связь скорее получит ложное Я, человек будет чувствовать себя еще более фрагментированным и продолжит избегать положительной обратной связи.
Компульсивные спасатели с такой скрытой и защищенной сердцевиной подвержены риску выгорания. Его симптомы несложно заметить: обычно человек чувствует, что у него нет сил помочь с тем, с чем к нему обращаются, а потребности окружающих людей начинают ощущаться как требования, а не как возможность выразить любовь, удовлетворив их. Если такая ситуация будет продолжаться долгое время, человек рискует выгореть.
Некоторые компульсивные спасатели знают, что в глубине души они несчастны, одиноки и нелюбимы. Их жизнь полна боли, и терапевту потребуется немало времени для того, чтобы помочь им увидеть в себе что-то хорошее. Другие же отождествляют себя с ролью помощника настолько сильно, что за чужим несчастьем забывают о своем – и могут только смутно задаваться вопросом, почему для них так важно всегда быть полезными.
В целом компульсивная забота – это чрезвычайно эффективный и социально одобряемый вид копинг-стратегии. Из-за этого клиентам бывает очень сложно меняться в процессе терапии, не хватает мотивации: ведь слушать о том, что нужно больше заботиться о себе и перестать вечно ставить других на первое место, им нравится – они чувствуют себя хорошими. Добавьте к этому тот факт, что исцеление компульсивных спасателей обычно не в интересах окружающих их людей – для них удобнее, чтобы те продолжали делать то, что делают. Как только они начинают хоть немного меняться, общество недвусмысленно заявляет им о своем недовольстве.
Поэтому я считаю, что важно помнить: такой копинг-механизм приобретается чудовищной ценой. За ним скрывается маленький человек, которого игнорировали и о котором, возможно, даже забывали – и он не заслуживает такой участи.
Глава 2
История эмоционального пренебрежения: сценарии развития
В этой главе я приведу примеры ситуаций, в которых дети могут получить опыт эмоционального пренебрежения. Также я бы хотела уточнить значение термина «эмоциональное пренебрежение» и сказать несколько слов о роли в жизни детей опекунов, и особенно родителей.
В контексте моей книги термины «эмоциональное пренебрежение» и «игнорирование» более или менее взаимозаменяемы, поскольку я считаю, что когда человека игнорируют, он, по сути, переживает эмоциональное пренебрежение. Это означает, что люди, которые должны заботиться о ребенке – родители или опекуны – не настроены на его эмоциональное благополучие, не видят признаков дистресса (или предпочитают их не замечать), не реагируют на просьбы ребенка о помощи, утешении или сочувствии.