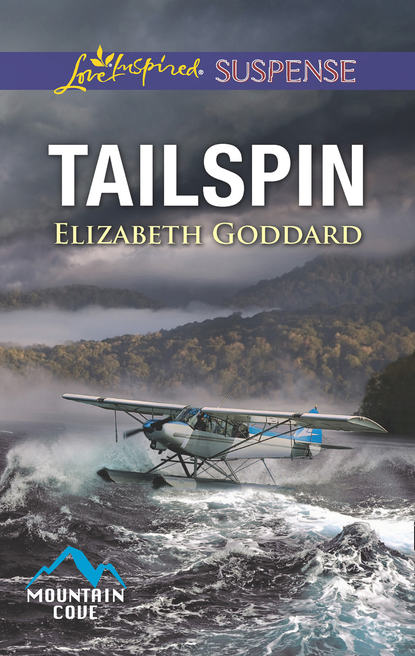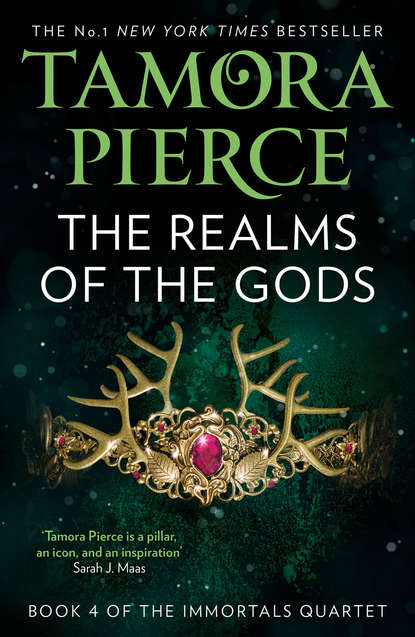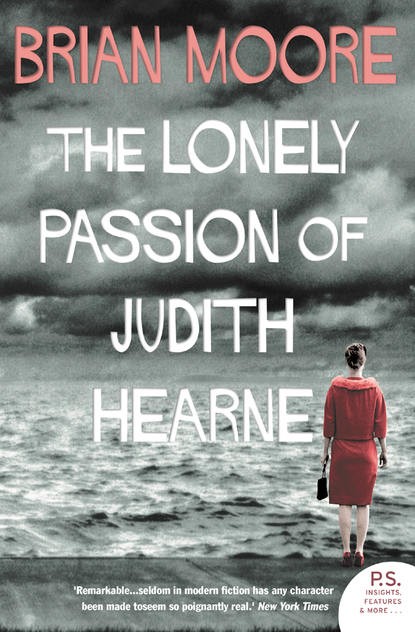Паранормальное: Свидания с призраками

- -
- 100%
- +
Я смотрела во все глаза, НО НИКОГО НЕ БЫЛО ВИДНО. Только прекрасный голос каждую секунду улетал, испарялся из моего мира. Та, что пела, была абсолютно невидима. Я не заметила ни одной птицы и никаких людей.
Вы можете возразить: есть всякие летательные аппараты! Да, конечно, они существуют сейчас, в 21 веке, но это было в восьмидесятые годы безвозвратно ушедшего 20 столетия, когда люди не знали никаких сложных устройств, кроме телевизоров и радиоприёмников. И синтезаторов ещё не продавали в магазинах. Из всех звукозаписывающих девайсов у меня имелся катушечный магнитофон, похожий размерами и внешним видом на небольшой чемодан.
«А-а-а-А-а!»
Боже мой, да кто же это? Птица Сирин? Алконост? Гамаюн? АНГЕЛ?

Ангел. Рисунок.
В этом голосе звучало всё: будущее, немыслимая красота, восторг и падение, и такая грусть, что слёзы лились из глаз. Что это было или кого я услышала – осталось загадкой. Невидимое существо, разбудившее меня, исчезло в далёком далеке. Может быть, это всё же прилетал Ангел, чтобы присмотреть за мной, а потом упорхнул?
Или же… а может, я услышала инопланетный голос? Ответ мне неизвестен. Могу сказать одно – его нельзя было назвать земным, этот чистейший звук любви и печали. В нём просияла вся моя жизнь!
О Неведомый Ангел, куда ты улетел?
Может быть, это была чья-то душа? Моя?
Так или иначе, в тот момент я первый раз соприкоснулась с чем-то под названием ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. Это был Улетевший-Вдаль-С-Подоконника-Голос. Это не была певица, распевающая арии где-то рядом, в моём доме или в соседних зданиях, потому что, знаете ли, певицы не имеют крыльев, а это существо взлетело с моего окна, огласило окрестность райской песней и унеслось вдаль. Что-то птичье всё же присутствовало в первоначальном стуке – когтей или рук? – о подоконник, а также в самом звучании, слишком высоком для человеческого пения; что-то птичье послышалось мне в тембре этого совершенного, эфирного голоса. Но была ли это птица? Скорее, птицеженщина или Ангел, если опираться на легенды и мифы.
Эпизод с ангельским пением остался в памяти своим небесным символизмом. Возможно, странные звуки, вторгшиеся когда-то в моё сознание во время сна и продолжившиеся наяву, предрекли мне дальнейшую судьбу певицы и музыканта – кто знает? Может быть, они стали предвестниками необыкновенных событий? Так или иначе, но нужно было как-то осознать появление удивительного пения в моей жизни, и я занялась поиском информации о птицах-женщинах и Ангелах.
Комментарии
Очень трудно прокомментировать то, что ты не видел, а только слышал. Но откуда-то из глубин памяти всплыли эти четыре названия: Сирин, Алконост, Гамаюн, Ангел. Я обратилась к Интернету в поисках ответа на вопрос, что за существо прилетало ко мне. И вот что я узнала.
Старинные русские легенды рассказывают о священных птицах. Их изображения встречались в летописях, на ювелирных украшениях, на резьбе соборов Древней Руси. Что же это за птицы?
Как утверждают сказания, они родом из Райского, или, по-другому, Солнечного Сада. При этом у каждой из них свои особенности.
Сирин – это полуптица-полуженщина, которая слетает на землю из райской обители и околдовывает людей своим пением. В легендах Западной Европы она является воплощением несчастной души, а в славянских мифах, наоборот, развеивает грусть-тоску и является лишь тем, кто счастлив. Название её – Сирин – происходит от греческого слова «сирена» и созвучно названию рая – Ирий. Согласно одному из мифов Древней Греции, Сирены были морскими девами, красавицами, входившими в свиту богини Деметры, но они не смогли помочь её дочери Персефоне, которую похитил бог царства мёртвых Аид. Поэтому богиня в гневе наделила их птичьими ногами. Во втором варианте того же мифа Сирены сами попросили для себя облик птиц, чтобы им было легче найти Персефону, и вследствие этого превратились в птицеженщин. Были и другие версии легенд. В фольклоре Древней Руси Сирин – это большая разноцветная птица-дева со строгим выражением прекрасного лица и женской грудью, с крыльями вместо рук, а на голове у неё – корона. Иногда она не имеет человеческих черт и является только птицей, с сияющим нимбом вокруг головы. У Сирин необыкновенно сладкий голос, и она поёт вещие песни о грядущем райском блаженстве. Вот только от этих напевов человек может потерять рассудок, поэтому в некоторых сказаниях птицедева имеет тёмное значение и считается посланницей подземного мира. Впрочем, в более поздних легендах русская птица Сирин уже не манит путников в царство смерти, как греческие сирены, но является магической защитницей. Утром на Яблочный Спас (праздник Преображения Господня) она прилетает в яблоневый сад, где плачет и грустит, а после полудня ей на смену приходит другая птица – Алконост, которая радуется и смеется. У Алконоста с крыльев падает живая роса, которая пробуждает плоды, наполняет их неведомой целительной силой – ведь яблоки как раз поспевают к празднику. Могу добавить, что я родилась именно на Яблочный Спас, 19 августа, и всегда считала церковный праздник Преображения любимейшим, потому что он также совпадает с моментом летнего созревания фруктов. Может быть, поэтому существо из какого-то другого, легендарного мира, и посетило меня?
В русских и византийских сказаниях Средневековья Алконост – птица-дева бога солнца Хорса. Название «Алконост» – на самом деле искаженное греческое слово «алкион», зимородок, и оно родственно легенде об Алкионе или, по-другому, Альционе, бросившейся после смерти мужа в море и превращённой богами в птицу-зимородка. Алконост – райская птица, приносящая счастье. Сказания о ней есть в памятниках древнерусской литературы. Места обитания птицы – река Евфрат, остров Буян и так же, как у Сирин, рай – Ирий. Когда она поёт, то утешает своим пением святых, которые слышат в звуках грядущую райскую жизнь. Подпись под одной из старинных картинок гласит: «Алконост близ рая пребывает, иногда и на Евфрате-реке бывает. Когда в пении глас испущает, тогда и самоё себя не ощущает. А кто вблизи тогда будет, тот всё на свете забудет: тогда ум от него отходит, и душа из тела выходит». Похоже, что пение этого существа настолько чудесно, что человек, услышавший его, забывает обо всём в этом мире. Алконост, по преданиям, откладывает яйца в глубину моря, и морская гладь успокаивается на 7 дней. Внешне птица очень похожа на Сирин: это дева с птичьими ногами, у неё корона и нимб, крылья и человеческие руки. Вот этим она больше напоминает ангела. В своей руке Алконост часто держит цветок или свиток со словами о жизни в раю для праведников. В целом, Сирин и Алконост – два очень схожих образа. Обе птицы-женщины происходят из рая и поют необыкновенно сладко. Перед началом двадцатого века их обеих можно было увидеть на народных лубочных картинках, на посуде и прялках, на вышивках и в кружеве. Сейчас всё это уже достояние музеев, но где-нибудь в глубинке их изредка можно встретить на резных досках домов.
На картине В. М. Васнецова из собрания Третьяковской галереи «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896) изображены обе полуптицы. При этом Сирин поёт о том, что рай когда-то был, но он утрачен, а Алконост обещает райское утешение когда-нибудь в будущем. Сирин, в золотой короне, изображена в тёмных тонах и преисполнена скорби, она склонила голову, листва возле неё потемнела. Птица-дева Алконост, также с короной из золота, запечатлена в светлых тонах, на её лице улыбка, крылья распахнуты грядущему, листья вокруг зеленые и пышные. Эта композиция – одна из наиболее типичных для легендарных созданий: они сидят по разные стороны дерева. Согласно древнейшим сказаниям о сотворении мира, от этих двух птиц пошла вся жизнь на Земле. Они обитают на Дубе, который стоит на Море-Океане, на острове Буяне. Это Мировое Древо – символ Бытия, а птицы-девы на нём служат добру и благополучию.
Мифы рассказывают ещё об одной сказочной птице, по имени Гамаюн. Она вещая, поёт людям божественные гимны и знает всё на свете: о народах и животных, цветах и деревьях, земле и небе, божествах и героях. Это посланник славянского бога Велеса, предвещающий будущее тем, кто умеет слышать тайное. Гамаюн летит с восхода вместе со смертоносной бурей. «Гамаюнить» означало «баюкать» (может быть, потому, что эти сказки рассказывали на ночь детям). Как и предыдущие птицедевы, она изображалась с человеческой головой и женской грудью. Что касается её имени, в мифологии Древнего Ирана есть птица счастья под названием Хумай. На персидском языке murg-i-humay’un-bal – «птица, предвещающая счастье», поэтому возможно, что фрагмент из данной фразы и стал названием легендарного Гамаюна (Хумаюна). Крик этой птицы также возвещал людям счастливую судьбу.
Васнецов изобразил её на картине под названием «Гамаюн – птица вещая», 1897 год. У птицы девичье лицо с печатью загадки. Чёрное оперение – словно символ ураганной мощи Гамаюна, а золотистые перья имеют красноватый оттенок, цвет крови. У неё утончённый силуэт, при этом поза исполнена тревоги, а на лице читается тоска всезнания.
В «Записках охотника», в рассказе «Касьян с Красивой Мечи» И. С. Тургенев так повествует о мифическом Гамаюне: «И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости…»4.
Райские девы-птицы из легенд и мифов, сладко поющие свои пророческие песни… Прилетала ли к окну одна из них? Трудно сказать. Но, быть может, меня навестила вовсе не птица, а Ангел, бесплотное божественное существо?
Слово «ангел» в переводе с древнегреческого означает «вестник». В разных религиях Ангелы – духовные, бестелесные, наделённые крыльями, сообщающие волю Бога и обладающие сверхъестественной силой. Они являются духами, не принадлежащими нашему материальному миру. Крылатые создания во всём подчинены Божьей воле, быстро передвигаются в пространстве, проходя при этом сквозь материальные предметы. Это очень могущественные существа, которые могут посещать любые места нашего мира, и не только – например, свободно перемещаться в мир мёртвых. Ангелы несут на себе отпечаток Божественного света – они «вторые светы» перед Богом, который есть «свет первый» – и являются посредниками между Господом и миром людей.
В то же время Ангелы – не только вестники, но и певцы. Они поют, потому что их переполняет радость и райская благодать. Люди могут услышать эти звуки внезапно, когда сами того не ждут. Сказания говорят о тех, кто слушал ангельское пение и утверждал, что оно не сравнимо ни с чем. Песнь Ангелов – это когда ликуют Небеса. Говорят, что кротких и смиренных людей Господь утешает посредством этой музыки.
М. Ю. Лермонтов так описывает духовное существо Света в стихотворении «Ангел» (1831):
По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли5.
Так кого же я услышала в тот весенний, наполненный особым знанием и чистотой день – Райскую Птицу-Деву или же Ангела? Не знаю. Но могу сказать, что забыть прекрасную песнь было невозможно. Словно бы голоса всех существ – Сирина, Алконоста, Гамаюна и даже Ангела – слились в этом необыкновенном звучании, которое позвало меня в мир чудес. В мир паранормального.
Советы
Что же делать вам, дорогие читатели, если вы встретите райскую птицу-деву или Ангела, а, может быть, случайно услышите их пение?
Во-первых, не шумите! По легендам, птица Сирин, например, очень боится громких звуков. Чтобы её отпугнуть, специально устраивали шум. Достаточно какого-нибудь резкого стука, и пение исчезнет. Поэтому сохраняйте спокойствие, двигайтесь плавно и медленно.
Во-вторых, попытайтесь потихоньку взять свой мобильный телефон или другое подходящее устройство и сделать запись аудио или видео, главное – зафиксировать необычное звучание. Вдруг вам повезет, и вы сможете запечатлеть что-то по-настоящему сенсационное? Есть свидетельство о том, что паломник на Афоне записал через окно на магнитофон пение Ангелов. Вот и вы попробуйте.
В заключение мне хотелось познакомить вас с ещё одной историей, созвучной моей, но с перемещением во времени, которую я нашла на сайте Оптиной Пустыни, в разделе «Симфония к беседам Преподобного Оптинского Старца Варсонофия»:
«Сохранилось предание об одном иноке, который, достигнув уже высокой духовной жизни, совершив всевозможные подвиги, начал смущаться помыслом о том, в чем же будет заключаться вечное блаженство… Однажды пошел он в лес и зашел в густую чащу. Уставши, присел он на старый пень, и вдруг ему показалось, что весь лес осветился каким-то чудным светом. Затем раздалось невыразимое сладостное пение. Весь объятый духовным восторгом, внимал Старец этому пению. Он забыл все на свете. Но вот, наконец, пение прекратилось. Сколько времени оно продолжалось – год, час, минуту – Старец не мог определить. С сожалением поднялся он со своего места, как бы хотелось ему, чтобы это небесное пение никогда не прекращалось! С большим трудом выбрался он из леса и пошел в свой монастырь. Но почему-то на каждом шагу Старец удивлялся, видя новые, незнакомые ему здания и улицы. Вот, наконец, монастырь. – «Да что же это такое? – сказал он про себя, – я, верно, не туда попал». Старец вошел в ограду и сел на скамью рядом с каким-то послушником.
– Скажи мне, Господа ради, брат, это ли город Н.?
– Да, – ответил тот.
– А монастырь-то ваш как называется?
– Так-то.
– Что за диво? – и начал подробно расспрашивать Старец инока об Игумене, о братии, называл их по именам, но тот не мог понять его и отвел к Игумену.
– Принесите древнюю летопись нашего монастыря, – сказал Игумен, предчувствуя, что здесь кроется какая-то тайна Божия.
– Твой игумен был Иларион?
– Ну да, ну да! – обрадовался Старец.
– Келарий такой-то, иеромонахи такие-то?
– Верно, верно, – согласился обрадованный Старец.
– Воздай славу Господу, отче, – сказал тогда Игумен. – Господь совершил над тобою великое чудо. Те иноки, которых ты знал и ищешь, жили триста лет тому назад. В летописи же значится, что в таком-то году, такого-то числа и месяца пропал неизвестно куда один из иноков обители.
Тогда все прославили Бога.
Существует предание, что в древности были птицы, пение которых звучало так сладостно, что человек, слушая, умирал от умиления. На Старце, триста лет слушавшем ангельское пение, удивил Господь Свое милосердие. Не оставил он в смущении раба Своего, столько лет Ему работавшего, и вразумил и утешил его Ему Единому ведомыми судьбами…»6.
Согласитесь, очень необычный рассказ о путешествии во времени с небесной песней. На самом деле, услышать райские мелодии удаётся очень немногим людям. Но если вы терпеливы и не будете совершать плохих поступков, то, может быть, и вам когда-нибудь повезет, и до вас донесётся неведомая песнь. Главное – не забыть обо всём на свете в этот момент, уж очень отличается ангельское пение от земных напевов, о которых я расскажу в своей следующей истории.
Тайна 2. «Пир в чертогах Хель»: сон про Николая Степановича Талакина
Пожалуй, мне придётся единственный раз отступить от хронологической последовательности, потому что события этой тайны охватывают большой временной промежуток. Речь пойдёт о музыке в моей жизни, о человеке, который повлиял на моё музыкальное образование, и о мире мёртвых, где я его потом увидела. Впрочем, давайте по порядку.
В детстве я училась как в обычной школе, так и в музыкальной студии, при этом в стенах студии я оказалась не сразу. В нашем районе первоначально не было музыкальных учебных заведений, а родители с утра до вечера были на работе. В среднюю школу №60 г. Алма-Аты (теперь это школа-гимназия), которая находится в микрорайоне «Орбита-1», меня отправили, как и всех детей, в 7 лет. А вот музыкальная студия открылась в том же здании на год позже. Мы с мамой вместе пошли туда записать меня на обучение. Молодая и приятная учительница музыки сказала нам, что для занятий обязательно нужно пианино. Поэтому мы навестили музыкальный магазин в микрорайоне «Орбита-2» города Алматы и купили мне подходящий инструмент. Он имел запах дерева и лака и назывался «Аккорд». Его звучание было изумительным, гармоничным и чистым. Играть на этом пианино было легко, его клавиши не были тугими, и мои руки порхали по ним, как бабочки. Я часто музицировала в своей комнате с видом на горы: подбирала мелодии и песни из телевизионных передач и с пластинок, а потом подолгу играла их и пела. Это было одно из моих самых любимых занятий – пение под собственный аккомпанемент; а ещё мне нравилось рисовать и сочинять стихи.
Так с 8 лет в мою жизнь вошла музыка. Я ходила 2 раза в неделю на фортепиано, разучивала пьесы и каждую четверть, то есть 4 раза в год, сдавала их на экзамене. Были ещё занятия сольфеджио и музыкальной литературой – 1 раз в неделю, они шли друг за другом, а также хор, который полагалось посещать 1—2 раза в течение недели, потому что студия, в которой я занималась, была хоровой.
И вот здесь я перехожу к герою этой истории, Николаю Степановичу Талакину. Он возглавлял музыкальную студию в те времена, когда я училась в школе. Николай Степанович имел дирижёрско-хоровое образование, а также прекрасно играл на баяне – в этом ему не было равных. Он был страстно увлечён музыкой, и энтузиазм нашего директора явился причиной того, что со временем не только студия, но и вся школа стала хоровой. Собственно, сейчас я отчётливо понимаю, что он сыграл большую роль как в музыкальном развитии других учеников, так и в моём становлении как музыканта. Прежде всего, именно Николай Степанович добился того, что в школе появился специальный класс для занятий хора. На задней стене этой большой комнаты была точная копия одной из картин Чюрлёниса под названием «Соната звёзд. Аллегро» – фреска, выполненная неизвестным местным художником масляными красками. Именно здесь проходили общеобразовательные и специальные уроки музыки, на которых практиковалось коллективное пение, а с общешкольным хором директор студии предпочитал репетировать в большом актовом зале, потому что это было самое вместительное из помещений, не считая спортзала. Туда мы приходили после уроков, иногда по принуждению, но, когда Николай Степанович всех «сгонял» в зал, там мы уже пели, к удивлению, с удовольствием. Поскольку хор школы состоял из учащихся разных классов, в дни массового присутствия нас было не менее 30—50 человек!
Как я уже сказала, благодаря усилиям директора студии наша средняя школа стала хоровой, поэтому в классы с 1 по 8 (под литерами А и Б) принимали только при наличии музыкального слуха. У этих учеников хор был не просто кружком по интересам, а обязательной программой. Не знаю, продолжается ли эта традиция до сих пор, но в том обществе, где нас растили, хоровое пение обогатило жизнь школьников. Мы росли при социализме, и из-за этого в наших буднях огромное место занимали всякого рода собрания. После уроков мы часто оставались для того, чтобы выслушать на классном часу нуднейшие политинформации (например, о том, как «загнивают» капиталистические страны, или о социалистических товарищах, готовых помочь Лаосу). Не поймите меня неправильно, я совсем не против того, чтобы кто-то помог кому-то, но унылые лица школьников, которые полчаса что-то бубнили себе под нос на этих сборищах, зачитывая материал из газетных вырезок, пока класс мерно храпел под чтение, не вызывали у меня особых позитивных чувств. Таким же скучным было общее собрание в актовом зале. Это означало, что мы займём свои места без возможности уйти, а директор школы, завучи и другие педагоги будут «разбирать» на сцене лентяев – тех ребят, которые плохо учились или же что-то натворили. Им так полагалось по учебному плану. Конечно, происходили и награждения добросовестных учащихся, и многие другие события – например, по большим праздникам учащиеся разыгрывали небольшие сценки, а иногда даже выступал школьный театр, но, поскольку мобильников, которые могли бы нас немного развлечь, тогда не существовало, да и малейшее подозрение в том, что ты отвлекаешься, могло дорого стоить впоследствии, приходилось честно выслушивать всю эту нуднотень.
Когда же появились разнообразные хоры (только представьте себе: хор 1 А, хор 8 Б и т.д.), наша школьная жизнь потекла уже не так скучно, как до этого. Теперь на собраниях часто выступали хоровые классы, и вместо того, чтобы смотреть на никому не нужные разборки, мы наслаждались по-настоящему интересной музыкой. Пели хорошо! Педагоги специальных классов были талантливыми людьми. Среди солистов выделялись Серёжа Менжулин, Валя Махрова и многие другие: они имели прекрасные голоса, и как же я хотела с тех пор стать солисткой! Но увы! Меня никогда не выбирали для этого – наверное, из-за робости. И я уже потеряла надежду, как вдруг…
Однажды на уроке пения в 7 классе мы учили песню «Рябина» (музыка – Александр Колкер, слова – Ким Рыжов). Это не тот народный шедевр про «тонкую рябину», который известен всем русским людям, а совсем другая песня. Я помню, что Николай Степанович хотел исполнить многоголосие. 1 и 2 сопрано, 1 и 2 альты – таково было обычное разделение ролей в нашем школьном хоре. И вот речь дошла до припева:
А с той рябины осыпалась листва,
Она от горя от горького мертва.
Ей весть пришла: «Не жди меня,
Вдова рябинушка моя».
Хотя песня звучала трагично, пацаны посмеивались, а девочки никак не могли попасть в тон. Партии 1 и 2 альтов совпадали, но им не хватало синхронности. От проявления недюжинной немузыкальности и недисциплинированности учащихся Николай Степанович сильно нервничал. Ему удавалось привести 7 В к некоторой гармонии, но, поскольку наш класс не являлся хоровым, это была лишь маленькая толика того, в чём нуждался директор. Песню мы учили уже несколько уроков, но всё равно получалось «кто в лес, кто по дрова».
Николай Степанович несколько раз поменял учеников в партиях. «Это всего лишь трёхголосие!» – говорил он. Но класс по-прежнему жутко фальшивил и раздражал директора. Я пыталась помочь своим голосом, и, может быть, первый раз на хоре пела не вполголоса, а в полную силу.
И вдруг на середине мотива он остановился и задал странный, с моей точки зрения, вопрос:
– Кто сейчас пел?
Все испугались, и сразу воцарилась мёртвая тишина. Ученики боялись наказания за свои проделки.
– Нет, ребята, я серьёзно. Кто сейчас пел? Ну-ка, давайте по очереди…
Он попросил спеть одну девочку, другую… Всё бесполезно. Спела сидевшая рядом со мной одноклассница Света – нет, это был не тот голос, который он искал в общем массиве звучания класса.
И вот дошла очередь до меня.
– Спой-ка партию альта.
Я начала петь. Альтовая партия была на одной ноте, с мелодией в конце. Я постаралась придать своему голосу низкое альтовое звучание. Николай Степанович аккомпанировал мне, и вдруг сказал:
– Талант! Да ты талант! Тебе надо солировать в этой песне.
Я порозовела от смущения. Первый раз кто-то сделал комплимент моей музыкальности! Я всегда краснела, когда смущалась. Другие ученики потом поддразнивали меня – «талант», но с ноткой уважения.
Так произошло первое признание моих певческих заслуг, хотя и в связи с печальной песней. Мы не были очень близкими друзьями с Николаем Степановичем и его семьёй, но я часто пересекалась с ним на хоре и уроках музыки. Странно, что до этого на мой голос не обращал внимание абсолютно никто, хотя мама решила отдать меня в музыкальную студию не только по моему желанию, но ещё и потому, что, как она объясняла, «как только начинает звучать песня по телевизору, моя дочь уже её поёт, и так она знает не менее тысячи песен». Мамуля говорила об этом всем родственникам и друзьям.
Директор студии умел также, кроме баяна, великолепно играть на аккордеоне, а ещё – настраивать фортепиано. Однажды, придя к нам домой с целью обновить звучание «Аккорда», он в очередной раз меня похвалил. Моё пианино всегда использовалось для упражнений, поэтому его строй нужно было время от времени корректировать. И вот, попросив меня послушать тоны во время настройки, директор сказал:
– Да у неё великолепный музыкальный слух!
С этого момента мои родители тоже стали относиться ко мне по-другому. Кроме того, директор студии поговорил с ними о моём возможном дальнейшем обучении музыке. После этого папа даже заказал для меня настроечный ключ! Впоследствии я поняла, что Николай Степанович был прав в том, что почувствовал во мне музыканта. И я действительно позднее поступила в музыкальное училище.