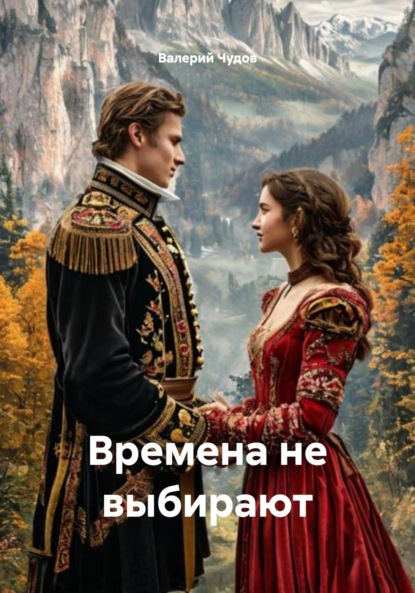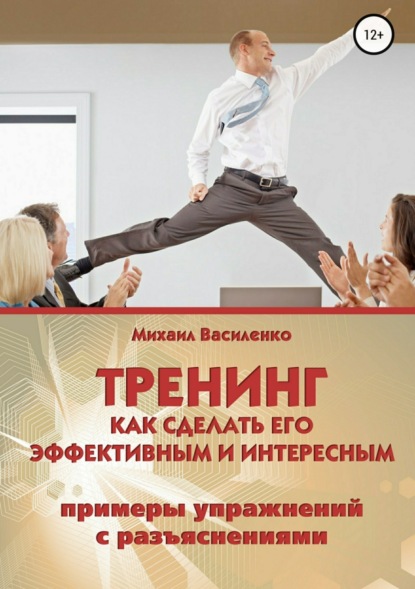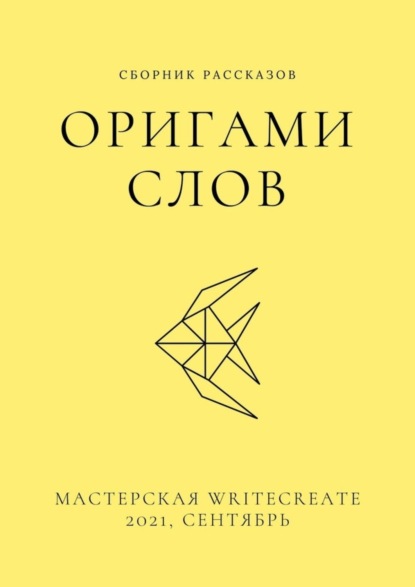- -
- 100%
- +
Святослав скрипнул зубами и потер раненую ключицу, вспоминая условия договора. Все владения, завоёванные за четыре года на правом берегу Дуная, потеряны. Правда, кораблей осталось почти прежнее число, но они были полупустые. Из его киевской дружины осталась треть. Хорошо хоть вся добыча, взятая в боях, осталась при воинах. Зная теперь о коварстве Цимисхия, Святослав опасался, что в устье Дуная его может встретить императорский флот. Да и на посредничество императора перед печенегами надежды было мало. Надо быстрее добираться до Киева. А там, отдохнув немного, собраться силой и вновь двинуться на Византию.
Святослав стукнул кулаком по колену: «Мы ещё покажем себя!»
Перед ним склонился воевода Свенельд:
– Княже, пора приставать к берегу на ночлег.
Святослав огляделся. Солнце катилось к закату. Кончался теплый августовский день. Его ладья прошла поворот Дуная, где река круто меняет направление течения с северного на восточное. Позади остались устье реки Прут и небольшой островок перед ним. Слева – высокий берег. Но не обрывистый, а с подъёмом на высокий холм.
Князь махнул рукой: «Причаливай!»
На ладье спустили парус, гребцы взялись за вёсла, и судно, развернувшись, уткнулось носом в песчаную отмель. Воины выскочили и вытащили ладью на берег. За первой лодкой последовали остальные. Вся дружина потянулась по холму к широкой равнине на самом верху. Вскоре там загорелись костры. Воины принялись готовить себе еду.
Святослав стоял на самом краю холма и осматривал окрестности. Справа видна излучина Дуная и устье Прута. Дунай здесь течёт широко, свободно; величавый в своей простоте, силе и мощи. Воды Прута с размаху бьют в него и, захваченные мощным течением, устремляются на восток, прижимаясь к левому берегу. Слева, вдалеке, Дунай делал небольшой изгиб. Там же виднелось большое селение, а перед ним – поле, засеянное пшеницей Это уже была русская земля, подвластная Киеву. Здесь жили тиверцы35. Но, в этом поселке можно было встретить и болгар, и людей из местных племён. Таких селений в этих местах было много. Русские вместе с другими народностями обитали на левом и на правом берегах Дуная вплоть до самого устья. К северу от реки, между озёрами, также были поселения тиверцев.
Святослав обратился к Свенельду:
– Пошли гонцов в близлежащие селения, пусть завтра доставят сюда хлеба и мяса. Задержимся здесь на день.
К князю приблизился один из сотников:
– Великий княже, у меня есть несколько воев из этих мест. Просятся остаться. Один хочет взять раненого с собой, подлечить.
– Отпустишь завтра утром, – решил Святослав. – Сегодня пусть побудут здесь. Попрощаются с другами своими. Оружие и добро, что приобрели в походе, пусть берут с собой. Через год, может, опять призову к себе.
На следующий день к лагерю потянулись повозки с хлебом, мясом и овощами. К вечеру продовольствие загрузили в ладьи, а утром Святослав дал команду отчаливать. На холме осталась небольшая группа местных, которые молча наблюдали, как ладьи выходят на середину реку и ставят паруса. Наконец корабли скрылись за поворотом. А люди разбрелись в разные стороны.
Одна повозка покатила вниз через поля к селу на берегу Дуная. Рядом с телегой, на которой лежал раненый, шел высокий тёмноволосый парень. Он шагал весело, потому что возвращался домой. Они подошли к окраине села. Небольшие дома из сырцового кирпича и полуземлянки, крытые камышом, располагались рядами вдоль обрывистого берега. За селом, в северной части, виднелась лощина, по которой протекал ручеёк. Дальше начинался холм, куда шла дорога из посёлка.
Селение было большое, где-то тридцать-сорок дворов. Люди здесь занимались всем понемногу, всякую работу знали. Пахали и сеяли пшеницу, ячмень, горох, просо, овёс. Промышляли зверя, ловили рыбу, бортничали и ткали. Поля и пастбища были общими. Но скотина у каждой семьи – своя. Землю обрабатывали сообща, потом делили на всех выращенное. В каждом дворе имелись хозяйственные постройки, загоны для скота и ямы для хранения зерна. С весны до поздней осени люди проводили время на свежем воздухе: спали, ели, готовили пищу под навесами. Зимой забирались в дома и полуземлянки, топили небольшие глинобитные печи. Жили дружно и с соседями из близлежащих сёл – мирно.
Семья встретила воина радостно. Отец крепко обнял юношу. А мать, пролив слезы на груди сына, долго не могла оторваться от него. Затем, два брата, которым было пятнадцать и семнадцать лет повисли на его руках. Целый день прошёл за столом и в разговорах. Люди приходили поздороваться, но не все уходили радостными. Пять юношей ушло со Святославом, а вернулся один – Драгопор. Раненому оказали такие же почести, как и сыну.
На следующий день Драгопор с отцом и братьями отправился в поле – надо убирать хлеб. Потом туда же с едой пошла мать. Раненый остался один. Он лежал на открытой лежанке, под навесом, в одних портках. Грудь перевязана свежей холстиной. Было тепло. Лёгкий ветерок приятно обдувал тело. Раненый смотрел в небо и наслаждался покоем.
За плетнём показалось круглое девичье лицо с вздёрнутым носиком и пухлыми губами. Из-под бровей вразлёт смотрели большие карие глаза. Тёмные волосы собраны в косу. Девица некоторое время наблюдала за раненым, а потом спросила:
– Ты кто?
– Яремир, – улыбнулся тот. – А тебя как звать?
– Юлия.
Она как-то неправильно выговаривала слова.
– Ромейка?
– Нет. Так меня мама назвала. Её род идет от римлян, – в голосе звучала гордость. – Но мой отец – из влахов36. Мы разговариваем на языке, схожем с романским.
Она замолчала. Ей понравился молодой русоволосый парень с голубыми глазами и сильным мускулистым торсом.
А он вдруг возьми да предложи:
– Ты проходи, присаживайся, поговорим. А то скучно одному лежать.
Девушка прошла через калитку и устроилась рядышком на бревне.
– Сколько тебе лет? – спросил юноша.
– Семнадцать.
– О, уже невеста.
– Мне никто здесь не нравится. А ты откуда?
– Мой род живёт далеко на севере, где большие леса. Полоцкая земля.
– А-а… – протянула девушка. Видно было, что она не имеет представления, где это. – За морем?
– Через море и дальше по Днепру, мимо Киева. А потом ещё по речкам.
– А как ты сюда попал?
– Пришёл с дружиной киевского князя Святослава.
– Уйдёшь опять туда?
– Наверное. Там мой дом. Поправиться только надо.
Девушка вдруг заторопилась.
– Ну, мне пора. Я побежала.
– Приходи ещё.
– Хорошо
Вечером Яремир рассказал своему другу о встрече с девушкой.
– А, Юлия, – рассмеялся Драгопор. – К ней многие сватаются, но она ни за кого из здешних замуж не хочет. Отец пригрозил ей, что выдаст за того, которого он наметит.
– Красивая девушка.
– Тебе понравилась?
– Да.
Новая знакомая стала наведываться к Яремиру ежедневно. Их встречи с каждым разом длились всё дольше и дольше. Наконец молодые люди поняли, что полюбили друг друга. Теперь они часто гуляли вдоль высокого берега Дуная и строили разные планы. Однажды в тёплый августовский вечер Яремир подарил Юлии сердоликовое ожерелье.
– Считай себя моей наречённой, – проговорил он серьёзно.
Девушка обняла его, крепко прижалась. От радости выступили слёзы.
К сентябрю юноша окончательно поправился и уже помогал семье своего друга по хозяйству. Работы было много. Пока не похолодало, надо готовиться к зиме.
Однажды Яремир предложил Драгопору прогуляться по окрестностям. Они обошли вокруг села и остановились на обрывистом берегу Дуная.
– Как называется ваше селение? – спросил Яремир у друга.
– Рен.
– Лучше бы назвать Рень – песчаная отмель.
– Это осенью и зимой видна отмель. А весной и в начале лета, когда вода в реке поднимается, отмель пропадает. Потому и пристань стоит высоко. Нет, селение названо в честь нашего прадеда. Давно, когда обры37 разбили славянские племена, часть антов38 ушло на север в леса. Другая часть – на юг к Тирасу39. Рен был воином-антом, воевал как наёмник в войске ромейского императора. Потом вернулся домой с женой ромейкой. Она была откуда-то из Фракии. После набегов обров Рен увел наш род из племени тиверцев сюда, в эти места. Воткнул меч в землю и сказал: «Мы будем жить здесь!» Людей из местного племени в этих местах было мало. Они обрадовались, что пришли воины, которые могут их защитить. Обры сюда не добрались, а потом и вообще сгинули. С тех пор мы живём в мире и согласии.
– Ты не думал, что надо построить укрепления в северной части села?
– Зачем? – удивился Драгопор.
– А вы не опасаетесь печенегов?
– Нет. Они кочуют в степи ближе к морю, – пояснил юноша. – В этих местах ни разу не появлялись.
– И всё-таки укрепить село не помешает.
Драгопор задумался. И было отчего. Ему уже доводилось видеть печенегов в деле. Ещё когда вместе с Яремиром воевал в Македонии. Вооружённые кривыми саблями, луками со стрелами и арканами, они с дикими криками бросались на врага. В ближнем бою пользовались иногда короткими копьями. Для защиты у них имелись небольшие щиты. Тело и головы облегали кожаные одежды и шапки. Редко у кого были кольчуги и шлемы. Если враг отступал, печенеги преследовали его, пока не уничтожат или не возьмут в плен. Но, встретив отпор, кочевники бросались в бегство, уходили на быстрых конях. Или же делали вид, что отступают. А когда враг начинал преследовать их, они устраивали засады. Под Аркадиополем40 кочевники были почти все уничтожены. А те, что остались, ушли на север. Печенеги коварны и жестоки. С ними договариваться трудно, потому что они не держать своего слова. Главное для них – добыча. Каждый из них старался захватить пленного, чтобы потом выгодно его продать. И если они действительно появятся здесь, жди беды.
– Возможно, ты прав, Яремир, – поразмышляв, согласился Драгопор.
На следующий день друзья явились к старосте и поделились опасениями. Как ни странно, но совет старейшин согласился с их доводами. На северной стороне насыпали небольшой вал и поставили частокол. Ложбина перед ним служила естественным рвом. На склоне противоположного холма устроили «волчьи ямы», хорошенько замаскировав травой. На западной стороне также вырыли ров и поставили частокол. Копали ямы и в поле, вбивали в землю колья в несколько рядов и перевязывали их веревками – ноги коня запутаются и всадник упадёт.
Из сельской молодежи друзья создали ополчение. Вооружение было разное: у кого – мечи и шлемы, у других – луки, стрелы. Но копий и щитов почти не было. А они очень нужны! Кочевники – прекрасные стрелки из лука. Вначале они осыпают противника стрелами, а после – нападают. Подобную лавину можно остановить лишь строем из щитов и копий.
– Ищите крепкие длинные палки и привязывайте к ним ножи. Это будут копья, – поучал Яремир ополченцев.
– Сбивайте деревянные щиты в рост человека. Они защитят вас от стрел, – добавлял Драгопор.
Друзья ежедневно учили молодых ополченцев держаться в бою, действовать оружием. К осени они были готовы отразить нападение.
Вскоре опасения Яремира подтвердились. Пришло известие: к северу на расстоянии двух дней перехода появились кочевники. Новость принёс всадник из селения, разграбленного печенегами. Потом появились беженцы. Селение Рен начало готовиться к обороне. Узкие улочки перегородили повозками. Скот убрали в низину между Дунаем и озером. Детей, женщин и стариков отправили поближе к реке. Если печенеги прорвутся, то пусть садятся на лодки и плывут на другую сторону. Оставшиеся мужчины приготовили подручные средства, которыми можно отбиваться от врага – косы, вилы, топоры. Наступили тревожные дни. Яремир и Драгопор выставили дозоры и подтянули ополчение к укреплениям. Печенеги могли появиться в любой день.
Печенеги из племени Гиазихопон перешли Прут и расположились у речки, впадающей в Кривое озеро. Отряд был не большой. Кочевники шли в родную степь, которая расстилалась между Тирасом, морем и устьем Дуная. Это были остатки войска, разбитого под Аркадиополем. Из тех, кто ушёл на войну, осталось чуть больше сотни. Из них – десятки больных и раненых. Несколько сотен женщин, детей, рабов. И обоз из повозок и кибиток.
Вождь рода Токмал болел уже несколько дней. И хотя кочевник лежал под медвежьей шкурой, его бил озноб. Слуга поднёс чашку с тёплым кобыльим молоком, но тот оттолкнул его руку.
– Позови Кергена! – приказал Токмал.
Керген был одним из сыновей брата вождя. Власть у печенегов не наследовалась от отца к сыну, но переходила, как правило, к двоюродным братьям или племянникам умершего хана. Каждая ветвь рода дожидалась своей очереди властвовать над другими. Правда, подобное проявлялось, прежде всего, во время походов и набегов. По наиболее важным вопросам печенеги собирали народное собрание и принимали все решения сообща.
В шатёр вошел пожилой коренастый кочевник со светлыми бородой и усами. Волосы заплетены в несколько тугих косичек. Керген молча склонился перед вождем.
– Ты назначен моим преемником, – слабым голосом проговорил Токмал. – Мне уже сообщили об этом.
– Да, великий. Но пока ты жив, все мы будем исполнять твои приказания.
– Я болен, – отмахнулся вождь. – И ты должен позаботиться о людях. У нас впереди зимовка. Я хочу знать, достаточно ли у нас еды?
– Мы собрали с соседних селений пшеницу, овёс, просо, привели овец и быков. Я думаю, этого хватит. Кроме того, мы и зимой можем пополнить запасы.
– Слушай, Керген. Неподалёку отсюда, на берегу Дуная, есть небольшое селение. Я давно хотел заглянуть туда, но… не получалось. Там находится пристань, через которую греки торговали с местными племенами. Наверняка у жителей имеется богатство. Возьми людей и потребуй с них дань. Но, запомни, только в товарах, золоте и серебре. Это – запас нашему роду на будущее.
– Да, великий, – смиренно согласился преемник.
– Иди.
Керген вышел из шатра, нахмурившись, потому что был против этого набега. Ведь пока всего хватает. Зачем гонять людей ради какого-то золота. Но ослушаться своего повелителя он не мог.
На следующее утро будущий вождь отобрал тридцать воинов для своего отряда. Через час кочевники уже скакали на юг в сторону Дуная.
На ночлег они остановились неподалёку от села. И на следующий день к полудню взобрались на последний холм, отделяющий их от цели. Стоял хороший осенний день. Светило солнышко. Было безветренно и тихо. Вдали виднелись дома и полуземлянки. А перед ними, через ложбинку, в двух полётах стрелы высился частокол на валу. Там же стояла шеренга бойцов, прикрытых щитами. Над ними колебались концы копий. За этим строем расположились стрелки с луками и стрелами. Впереди выделялись два воина в полном боевом вооружении – блестящие кольчуги и шлемы, червлёные щиты в рост, копья и мечи.
Это было настолько неожиданно, что печенеги замерли от удивления – они не привыкли к такому приёму! Обычно кочевники не встречали сопротивление. Всегда брали, что хотели. Не зная, как поступить, люди вопросительно смотрели на командира. Керген вначале растерялся, но взяв себя в руки, распорядился:
– Это руссы. Надо посылать гонца с предложением…
За день до этого Драгопор получил известие от разведчиков: кочевники расположились на ночлег недалеко от селения. Печенегов было немного – несколько десятков. Значит, силы небольшие и с ними можно бороться. Поутру Драгопор и Яремир вывели своё ополчение за село и построили людей перед частоколом. Пусть враг видит, что мы сильны и не стоит сюда соваться. По замыслу организаторов обороны, если кочевники пойдут в обход или возьмут подкрепление, ополчение должно отойти в село и бороться с противником там. До тех пор, пока хватит сил. Когда будет уж совсем невмоготу, то всем приказано уходить за реку.
Юлия тоже влруг захотела стать в ряды защитников. Аргумент простой: «Надо же кому-то ухаживать за ранеными!»
– Раненых не будет, – отрезал Яремир. – Хоть печенеги и наглые, но не полезут туда, где их могут уничтожить. Сила остановит.
Несмотря на запрет, Юлия все-таки пробралась на край села, поближе к укреплениям. Впрочем, не только она. Половина селения вышла понаблюдать за развитием события. Не помогли уговоры Драгопора, что дело серьёзное. И лучше найти место, где спрятаться. Все почему-то надеялись на благополучный исход.
– Такое поведение естественно для тех, кто никогда не видел войны, – вздохнул Яремир. – Вот беженцы знают, что это такое… Уже попрятались в камышах.
Хотя ополченцы и ждали врага, но кочевники появились неожиданно на холме. Некоторое время печенеги стояли, не предпринимая никаких действий. Затем предводитель махнул рукой, отдавая приказание. От неприятеля отделился всадник и помчался по дороге через ложбинку. На полпути конь вдруг рухнул в яму. Всадник свалился с коня и остался лежать неподвижно на земле. Среди кочевников раздались удивлённые возгласы. Ополчение хранило молчание.
Керген понял: селяне договариваться не будут. Ибо подготовились и готовы сражаться. Даже если он пустит людей в обход, их непременно перебьют. А воинов у него мало. И нет смысла их губить. Да и ради чего сражаться?! Вряд ли здесь будет большая добыча.
Керген помолчал, затем приказал:
– Подберите несчастного. Мы уходим…
Ополченцы видели, как два всадника из вражеского отряда забрали товарища, после чего вся группа повернула коней и скрылась за горизонтом. Несколько часов ополчение не сходило с места. Драгопор послал разведчиков узнать, не появились ли кочевники в других местах? Вернувшись, те доложили: печенеги ушли на север.
Еще несколько дней Драгопор и Яремир не убирали засады и наблюдательные посты. Потом пришло известие, что кочевники снялись со стоянки и двинулись к морю. Только тогда селение вздохнуло с облегчением. В течение нескольких дней, люди приводили в порядок село, убирали ненужное, но валы, рвы и частоколы оставили на всякий случай. Среди селян царило такое воодушевление, будто они одержали победу в большом сражении. Впрочем, как говорил после всего, Драгопор, победа была одержана – у каждого над самим собой.
Когда Керген привёл маленький отряд к основным силам, ему сообщили: Токмал совсем плох и лежит без сознания. Это значит, теперь ему надо принимать решение о дальнейших действиях. Керген размышлял не долго.
– Готовьте обоз, – бросил он, – завтра уходим! Зимовать будем за Большим озером. Там хорошие места…
В селении Рен печенеги больше не появлялись.
Осень была тёплой, почти без дождей. Драгопор и Яремир много времени проводили в поле и на озере. Охотились, ловили рыбу, заготавливали припасы. Потом пришла бесснежная зима. Снег пошёл только месяц спустя, после зимнего солнцеворота. Ударили небольшие морозы, намело немного сугробов. Холода не затянулись, началась оттепель. Незаметно подкралась весна с тёплым солнышком. Люди начали готовиться к пахоте.
Юлия ждала от Яремира предложения о женитьбе, но юноша молчал. Лишь однажды признался:
– Я воин. Не хочу оставить тебя вдовой. Ты ещё молода. Вот съезжу в родные края. Проведаю родных, схожу в поход со Святославом, потом вернусь сюда, и тогда мы поженимся.
– Я тоже поеду с тобой, – решительно заявила девушка.
– Нет, – покачал головой Яремир, – Дорога опасная. Лучше ты подожди меня здесь. Я обязательно вернусь.
Девушка обиделась и некоторое время не разговаривала с ним. Потом вдруг загорелась желанием крестить Яремира. Сама она, как и большинство людей в селе, была христианкой. Лишь несколько семей, в том числе и род Драгопора, поклонялись старинным славянским богам. Яремир, будучи в Византии, видел много христианских храмов, восхищался их красотой и светлостью. Особенно нравились ему купола, похожие на разноцветные луковки, устремлённые в небо. Однако маленькая деревянная церквушка на окраине села у кладбища не располагала к себе. Внутри темно, тесно и неприятно пахло. Не внушал симпатию и худой сутулый священник с усталым лицом и гнусавым голосом.
– Я пока не готов поклоняться Христу, – отмахнулся Яремир. – Вот когда приеду сюда навсегда, то, может быть, и стану христианином.
– Христос спасёт тебя от опасностей! – с жаром уверяла девушка.
– В дороге мне поможет Перун, – успокаивал ее юноша.
Юлия снова обижалась, но ничего поделать не могла. В конце концов, девушка смирилась.
После весеннего сева Яремир засобирался в дорогу. В селе ждали торговых людей, которые обычно в это время спускались по Пруту в Дунай и шли дальше к устью, а потом по морю в Константинополь.
– Они вряд ли возьмут тебя с собой, – заявил Драгопор другу. – У них ладьи заполнены товаром. Возьми-ка ты лучше небольшую лодку с парусом. С ней сможешь присоединиться к каравану. Дойдешь с купцами до Селины41, там подождёшь торговых людей, которые идут на север, к Тиру или к Днепру.
Вскоре появились купеческие корабли. На несколько дней остановились у села и кое-чем поторговали. Взять Яремира на одну из ладей они решительно отказались. Но были не против, если он присоединится к ним со своей лодкой.
Прощание было недолгим. Юлия плакала, обнимала Яремира и повторяла вечный, для всех влюблённых, вопрос:
– Ты меня любишь?..
– Конечно, люблю, – утешал её юноша, уже в который раз. – Я обязательно вернусь. И останусь с тобой навсегда.
Когда Яремир загрузил на лодку своё оружие (кроме копья), снаряжение и еду, Драгопор посоветовал:
– Возьми немного товара – зерно, шерсть, мёд, кожу. Продашь грекам в Селине. Деньги в дороге пригодятся. Щит можешь оставить. Он такой громоздкий.
– Товар возьму, а щит не оставлю. Видишь эти отметины от стрел и зарубки от вражеских мечей? Он мне столько раз жизнь спас.
– Твоё дело.
Друзья крепко обнялись на прощание и дали слово друг другу встретиться вновь.
– Если Святослав пойдёт на ромеев, я присоединюсь к вам, – пообещал Драгопор.
– Такой воин нам не помешает, – улыбнулся Яремир.
До Селины купеческий караван добрался за два дня, встав лишь один раз на ночлег в том месте, где Дунай разделяется на рукава. Селина – маленький городок, который разместился у впадения среднего русла в море, весной походил на растревоженный пчелиный улей. Греки, болгары, армяне, славяне, печенеги и представители местных племён толпились здесь, пытаясь купить или продать товар. Здесь перекрещивались морские пути с севера на юг и с запада на восток.
Яремир продал товар, кроме лодки, и принялся ожидать суда, идущие на север. Ждать пришлось не очень долго. Подошёл караван, который направлялся в Тир из Константинополя.
Старшина каравана согласился захватить Яремира.
– Лишний боец нам не помешает, – пояснил он. – На побережье кочевники шалят. Однако взять тебя на ладью не могу – там всё товарами завалено.
– Да я на своей лодочке за вами двинусь…
– Ой, вряд ли угонишься за нашими судами, – усмехнулся старшина.
– Ничего, на ночлеге догоню, – заверил его Яремир.
Море было спокойное, и они за несколько дней добрались до Тира без происшествий. Правда, не единожды появлялись на горизонте всадники и скакали по берегу рядом с караваном, но потом уходили в степь. Видно, сил было мало, и они не решались нападать даже ночью.
В Тире Яремир задержался дней на десять. Не было караванов на Киев. Однажды ему сообщили, что на Белобережье, неподалёку от устья Днепра, зимовал Святослав со своей дружиной. Будто теперь он чинит ладьи и готовится идти на Киев, вверх по реке. Яремир решил, не теряя времени, двигаться к своим.
Когда же он добрался до боевых товарищей, то удивился, как они похудели.
– Еда кончилась, – жаловались дружинники. – Ремни от щитов варили. За мёрзлую конскую голову по полу-гривны платили. Но ничего, через несколько дней выйдем в путь. Князь приказал готовиться.
Друзья рассказали Яремиру о неудаче. Прошлой осенью, когда войско подошло к устью Днепра, воевода Свенельд посоветовал Святославу:
– Великий княже, давай не пойдём водой, а двинемся конным путём, сушей, обходя пороги. Не ровен час, печенеги ждать там будут. Не отобьёмся от них.
Но князь почему-то не послушался умудрённого опытом воеводы.
– Император послал печенегам посольство с просьбой, чтобы пропустили нас, – не согласился он, и немного подумав, закончил: – Там и мой человек есть… Если что не так, сообщил бы уже.
– А можно ли верить льстивым словам ромеев?
– Я верю слову императора, – отрезал князь.
Дело было в том, что после заключения договора под Доростолом между Русью и Византией, Цимисхий послал епископа Феофила к вождю печенегов – кагану Куре. Посланник вёз дорогие подарки и предложение императора о заключении между печенегами и Византией договора о дружбе и союзе. Цимисхий просил печенегов более не переходить Дунай, не нападать на принадлежащие теперь Византии болгарские земли. Также обратился к кагану с просьбой беспрепятственно пропустить русское войско на родину. Куря, выслушав посланника, при всех согласился. Однако, оставшись наедине с епископом, вдруг хитро прищурился и зло произнёс: