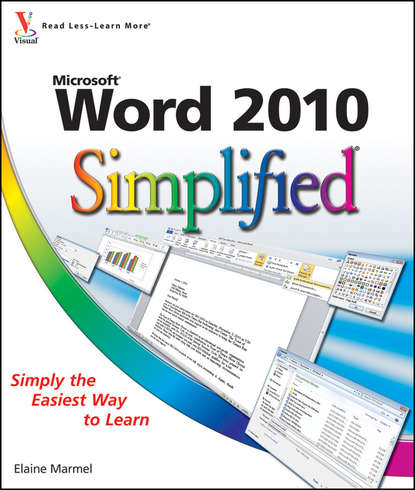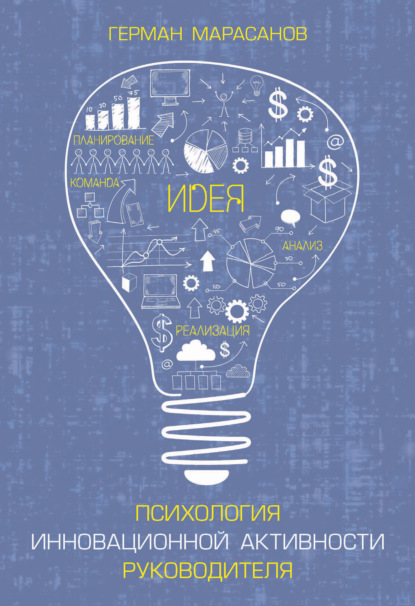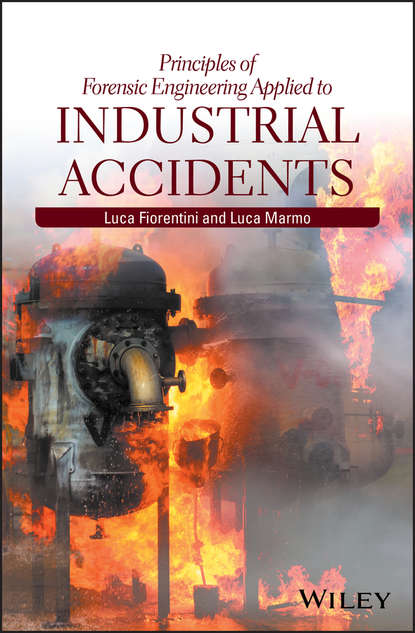Сны про чужую жизнь

- -
- 100%
- +
Когда оперативники ушли, Анфиса, оправившаяся от шока, потребовала у мужа объяснений. «Да, это рукописи Пушкина, – подтвердил Чемоданов и, помня наставления Остапчука, пояснил: – Но они не мои. И сундучок не мой. Это вещи Остапчука. Он просил, чтобы я некоторое время подержал их у себя». И Чемоданов на всякий случай задвинул сундучок ногой под стол. «А твоя бабка здесь с какого боку? Степанида Гавриловна?.. Ее ты зачем к Пушкину присобачил? – нахмурилась Анфиса. – Ты, я вижу, совсем заврался, Чемодан Иванович!» Чемоданов попытался что-то сказать в свое оправдание, но в следующее мгновение в его голову полетела коробка с аптечкой, чего несчастный никак не ожидал – Анфисе не были свойственны замашки базарной бабы, но тут она не смогла сдержаться. Чемоданов уклонился от удара, но коробка всё же задела его по касательной, больно чиркнув по щеке. Зажав рукой пораненное место и сдерживая стон, он опустился на диван, изобразив скорбь на лице, желая тем самым показать, что «Пушкины» по пустякам слез не роняют. Но Анфиса, не знакомая с ночной жизнью Чемоданова, не оценила этого. Ни слова жалости не слетело с ее уст. Она подхватила хозяйственную сумку и ушла в магазин, что помешали ей сделать ранее сотрудники полиции.
К вечеру под правым глазом у Чемоданова образовался большой лилово-черный синяк. И он, не желая смущать дочь и соседа, которого ожидал в гости на партию шахмат, надел на глаза темные очки. Но синяк, словно назло, вылезал своим краем из-под притемненного стекла, придавая Чемоданову вид сбежавшего из-под стражи уголовника.
Самое интересное, что и у Пушкина в картинах сна под глазом образовался синяк. И Натали пыталась выяснить у мужа, как это произошло. «Что случилось, друг мой?» – спрашивала она с перепуганным лицом. Но поэт только пожимал плечами, сам пребывая в недоумении…
Неделю после этого случая Чемоданов не разговаривал с Анфисой. Благо было кому его утешить, когда он погружался в сон и вел там пушкинскую жизнь. Всё это время он и Анфиса спали отдельно. Анфиса с дочкой на супружеском ложе, Чемоданов – в гостиной на диване.
Парни из полиции не появлялись. Видимо, ждали ответа из Саратова на посланный туда запрос: имеет ли умершая Уколова Степанида Гавриловна, местная в прошлом жительница (она же – бабка Чемоданова), отношение к известному роду поэта Пушкина?
Как-то Остапчук проснулся от раннего телефонного звонка. Звонил Чемоданов.
– Меня убили! – заявил он трагическим голосом и громко всхлипнул.
– Подожди, подожди! – растерялся Остапчук, с трудом соображая со сна, что к чему. – Как это тебя убили, если ты мне звонишь?
– Я… то есть Пушкин… умер сегодня ночью…
– Так это Пушкин умер, а не ты!
– Он умер, и моя жизнь тоже кончена…
– Ну, это, брат, уж слишком!
Тем же утром, увидев расхристанного Чемоданова с початой бутылкой водки, сидящего с потухшим взором у кухонного стола, Анфиса перепугалась и решила, что пора начать общаться с опальным мужем, пока тот не пошел по кривой дорожке. Вот уже и пить с утра начал!
– Что это ты? Тебе на работу пора, а ты водку пьешь?
– Пушкин умер…
Перед глазами Чемоданова промелькнули последние минуты, проведенные им в облике Пушкина на диване в доме на Мойке, лица близких людей, окружавших его, страдающего от смертельной раны. Потом агония… И темнота.
За кухонным окном кружились в воздухе назойливые белые хлопья. Это носился по городу тополиный пух, от которого не было спасения не только тем, кто страдал аллергией, но и всем прочим. Он забивал нос, лез в рот. И от этого белого, словно снег, пуха на душе у Чемоданова было еще муторнее.
Анфиса как-то странно взглянула на мужа.
– Ну, умер. Это известный факт, – сказала она. – Но это было давно… В чем, собственно, дело? В чем фишка?
– Пушкин умер и я, считай, тоже…
Анфиса пощупала лоб Чемоданова.
– Ты здоров?.. Лоб вроде не горячий… Какая связь между тобой и человеком, который умер почти двести лет назад?
– Тебе этого не понять!
И тут Анфиса увидела под распахнутой рубашкой на животе у мужа, справа, черно-синее пятно гематомы размером с детскую ладонь.
– А это что такое?! – взволновалась она.
Чемоданов не ответил.
– Отвечай!
– Видимо, след от пули. На дуэли…
– Какой еще дуэли?!
– Ты понимаешь, Пушкин умер, – вновь заявил Чемоданов и, не справившись с чувствами, зарыдал.
Перепуганная Анфиса, поручив дочке-школьнице приглядывать за отцом, чтобы тот не совершил над собой какой-либо глупости, закрылась в ванной комнате и стала звонить подруге Маше с целью рассказать ей, что с Чемодановым происходит что-то неладное, и посоветоваться, как действовать дальше. Подруга Маша была врачом-урологом и знала ответы на многие вопросы в этой жизни. А уж тем более – как приводить в чувство мужчин. Телефон Маши не отвечал, и от этого Анфиса нервничала еще больше.
Очередная попытка дозвониться до Маши была прервана настойчивыми звонками в дверь. Это примчался Остапчук, напуганный ранним телефонным разговором с Чемодановым.
– Где он? – спросил Остапчук, стремительно проходя в квартиру.
– На кухне – с бутылкой сидит… – сообщила Анфиса. – И, по-моему, не в себе. Плачет по поводу смерти Пушкина… На животе – гематома… Ударился, что ли?.. Может, вызвать «скорую»?
– Не надо «скорую», – остановил ее Остапчук. – Оставь нас наедине…
Анфиса забрала дочь и ушла, прикрыв за собою дверь.
Остапчук провел на кухне около часа. О чем они говорили с Чемодановым, осталось неизвестным. Если б не дочь рядом, Анфиса могла бы подслушать разговор и, может быть, поняла б суть происходящего, но при дочери не стала этого делать, дабы не подавать девочке дурной пример.
Вышел Остапчук красный, словно из парной. От него разило водкой.
– Пусть отлежится пару дней дома, – посоветовал он Анфисе. – Организм отдохнет, нервы придут в порядок… В случае чего звони мне, я приеду, – добавил он тоном врача, постоянно наблюдающего за состоянием здоровья Чемоданова.
Анфиса вошла в кухню. Увидела на столе две рюмки и пустую бутылку из-под водки. Рядом, на тарелке, лежала нарезанная неаккуратными кусками недоеденная докторская колбаса.
Чемоданов, мертвенно-бледный, в отличие от «распаренного» Остапчука, сидел у стола, прикрыв глаза, и не шевелился.
Анфиса отвела мужа за руку в спальню, уложила в постель. Тот не сопротивлялся.
Болел Чемоданов долго, и врачи так и не смогли поставить диагноз. «Стресс, перешедший в горячку», – говорили они. Но, что стало причиной стресса и почему случилась затяжная горячка, ответить не могли.
Наконец дело пошло на поправку. Чемоданов в сопровождении дочери стал выходить на улицу. С интересом вглядывался в шумящие на ветру деревья, в голубей, клюющих хлебные крошки на асфальте, разбросанные сердобольными старухами, в плывущие над головою большие белые облака. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы…» – бормотал он себе под нос.
Узнав, что приятель вернулся к нормальной жизни, появился Остапчук, до этого лишь изредка звонивший Анфисе.
– Ну, как ты? – бодро поинтересовался он, подсаживаясь к Чемоданову, сидевшему с задумчивым видом у дома на скамейке в тени деревьев, вглядываясь в его осунувшееся лицо.
– Нормально… – отозвался тот.
– Что снится по ночам? – осторожно поинтересовался Остапчук. В последнее время он испытывал серьезную потребность в деньгах и хотел знать, сохранился ли у Чемоданова прежний дар.
– Ничего не снится… Засыпаю и – мрак. Черная дыра!
– Значит, не пишешь, и рукописей нет…
– Какие рукописи, если тьма вокруг, и я в ней, словно в безвоздушном пространстве!
– Плохо, – огорчился Остапчук. И дал совет: – Ты в следующий раз, когда окажешься в этой темноте, не суетись, походи, поищи, пощупай пальцами… Может, откроется там какая-нибудь дверь, и опять в Пушкины попадешь. Чувак! – голос его дрогнул. – Бабки очень нужны!
– Какая, к черту, дверь, если вокруг кромешная тьма! – рассердился Чемоданов. – Ты что?!
– Ну, мало ли! Может, повезет тебе еще раз, и ты если не Пушкиным, то Гоголем, к примеру, станешь! А? Напишешь продолжение «Мертвых душ» или что-то в этом роде! Представляешь?
Чемоданов нахмурился. Речь Остапчука воспринял как оскорбление. Того, кроме денег, ничто не интересовало, и это вызывало отвращение. Чемоданов поднялся и ушел в подъезд, не слушая скорбные вопли приятеля, летевшие ему вслед…
Время шло. Чемоданов постоянно думал о своей «пушкинской» жизни. О другом думать не мог. Сидел всякий раз печальный и безвольный. Однажды, находясь в таком состоянии, устроил у себя на работе короткое замыкание – воткнул в розетку то, чего туда не следовало втыкать. Потери от пожара были большие. Чемоданова уволили.
Новую работу он искать не стал. Попробовал взяться за написание книги, в которой хотел описать от лица Пушкина всё то, что происходило с ним в далеком прошлом, но как-то не пошло, не заладилось… Пришлось оставить эту затею.
Как-то Анфиса, которой всё это надоело, добавив своему голосу назидательного пафоса, заявила мужу, что он не имеет права бездельничать, потому что должен кормить семью, то есть ее и дочь, а не жить у жены на содержании. В эту минуту она показалась Чемоданову глупой и отвратительной, наподобие болотной жабы, которую опасаешься брать в руки. И Чемоданов ушел из дома.
Следователи, занимавшиеся делом Чемоданова, всё же получили из Саратова ответ на свой запрос. В нем говорилось, что в архиве нет никаких данных о том, что Степанида Гавриловна Уколова, умершая тогда-то и тогда-то… относилась к роду А.С. Пушкина и являлась одним из потомков поэта. Зато, говорилось далее, обнаружились документы, в которых сказано, что дед гражданки Уколовой по материнской линии был прямым потомком поэта Тютчева… Вот тебе раз! Поразмыслив над полученным ответом, следователи пришли к выводу, что у праправнучки одного поэта вполне мог оказаться сундучок с рукописями другого. И решили закрыть дело.
Чемоданов же, уйдя из дома, опустился, зарос. Превратился в бомжа. Ходил бесцельно по улицам и думал, думал, как ему вернуться обратно в петербургскую жизнь первой половины XIX века, где у него было немало друзей, приятелей и просто знакомых. Где была беспокойная, но притягательная жизнь, полная радостных причуд бытия и ясного смысла, и где не последнее место занимали честь и благородство. Где жила Наташа Гончарова, Натали, образ которой преследовал Чемоданова постоянно, словно его слепило проглянувшее из-за облаков безудержное весеннее солнце.
Однажды автор, решивший поведать эту историю читателю, встретил Чемоданова на улице, радостно потянулся к нему рукой, желая узнать, что и как, но тот, ослепленный своими горячечными видениями, не узнал его и, припрыгивая на длинных тощих ногах, прошел мимо.
Оркестровая яма
Театральный осветитель Скобелев, проходя по краю сцены, сорвался и упал в оркестровую яму. И пролежал в ней два дня – до того ему было там хорошо, что он решил остаться.
Обнаружили его местные оркестранты, явившиеся на репетицию.
– Ты что здесь делаешь? – спросила скрипачка Фельдман, сорокалетняя дама, миловидное лицо которой портил не в меру длинный нос.
– Что делаю? Лежу, – отозвался Скобелев.
– И всё?
– И всё.
– Молодец! – сказала Фельдман. – Подвинься, мне надо поставить пюпитр, а твои ноги мешают… Если бы не сегодняшний день рождения мамы, я бы тоже здесь устроилась. Надоела пошлая жизнь!
– А я лягу, – заявил флейтист Птоломеев и, отложив в сторону свою флейту, лег на пол. Сняв предварительно ботинки для удобства.
– Хорошо я сегодня новые носки надел, – шепнул он Скобелеву.
Тот протянул ему руку.
– Иван.
– Эдик! – представился флейтист.
Скобелев улыбнулся.
– Ты знаешь, – сказал он, – я здесь вторые сутки… и вот занятная штука: курить не хочется! Веришь?
– А выпивать? – поинтересовалась Фельдман, словно была заядлой пьяницей.
– Тоже.
– Что же ты делал всё это время? – спросил Птоломеев.
– Лежал… – Скобелев вновь улыбнулся. – Смотрел вверх… На небо… Там звезды. Красиво!
– Небо? Здесь? – Фельдман недоверчиво посмотрела на потолок, на котором висела огромная люстра.
– Если бы не путевка на Канары, – вздохнул виолончелист Давыдов, – и я бы к вам присоединился…
– Да брось ты свои Канары! Здесь лучше! – вздохнула Фельдман и вновь бросила взгляд на потолок.
Пришел дирижер. Началась репетиция.
– Попрошу с двенадцатой цифры! – сказал дирижер и постучал палочкой по пюпитру.
Скобелев и Птоломеев затихли.
Музыканты заиграли.
– По-моему, Дуркин на фаготе фальшивит… – тихо сказал Скобелев, обращаясь к Птоломееву.
– Я и без вас знаю! – громко прервал его дирижер. – Лежите тут – и лежите!
И ушел, обиженный, заявив, что на сегодня он записан к зубному врачу.
Музыканты посидели некоторое время молча, потом как-то дружно поднялись и шумно отправились в буфет.
Скобелев и Птоломеев остались в оркестровой яме одни.
– Жена будет ругаться, если я не приду домой, – задумчиво сказал Птоломеев. – Подумает, что был у любовницы…
– А ты иди, – сказал Скобелев, – я тут за двоих полежу…
– А твоя жена? Переживает, наверное, что тебя нет дома?
– Пусть поживет одна… Может, тогда поймет, что почем.
– Нет уж, никуда я не пойду! – заявил Птоломеев. – Мы теперь с тобой в одной связке, как пара гнедых…
Вечером шел спектакль без музыки. Точнее, она была, но не живая, ее давали в записи.
В яме было пусто и тихо.
Артисты ходили по сцене и несли отсебятину.
– Чего они там несут?! – удивлялся Птоломеев. – Врут безбожно! Нельзя так с «Дядей Ваней» Чехова.
– Да ладно, – мирно заметил Скобелев. – Зрители всё равно ничего не поймут… Чей он дядя – Чехова или нашего главного режиссера – им без разницы! Они пришли на Веселовскую посмотреть!
Веселовская, следует сказать, была ведущей актрисой театра, много и удачно снималась в кино, и ее имя на афише буквально притягивало зрителей.
– Я не знаю, чего они нашли в этой Веселовской? – пожал плечами Птоломеев. – По мне, Кашина лучше… А впрочем, скорей бы ночь, как они мне все надоели!
После спектакля зрители долго хлопали, не желая отпускать Веселовскую. Они бросали ей цветы через оркестровую яму. Один букет попал партнеру Веселовской в лицо. Тот грязно вполголоса выругался, но лежащие в яме Скобелев и Птоломеев хорошо слышали его.
Один из зрителей, прыщавый тщедушный молодой человек восемнадцати лет, полез грудью на борт оркестровой ямы, желая быть поближе к своему кумиру и чтобы та его заметила, когда он станет бросать букет.
– Куда ты лезешь?! – крикнул снизу Скобелев. – Подарил бы лучше цветы маме!
Голос лежащего в яме человека, возникший столь неожиданно, произвел на юношу такое сильное впечатление, что он не удержался на плюшевом бруствере и полетел вниз вместе со своим букетом.
– Нашего полку прибыло! – философски заметил флейтист и положил для удобства руку под голову.
– А зачем он нам? – спросил Скобелев. – Пусть идет к маме.
– Тебе что, жалко, если он здесь останется?
– Да нет, – согласился Скобелев. – Пусть лежит. Места хватит. Главное, чтобы он не портил воздух. Ты как насчет этого? – спросил он у юноши.
Испуганный юноша, потирая ушибленный бок, долго не мог понять, что здесь делают лежащие на полу люди и почему они обсуждают его судьбу.
Юноша понюхал свой букет – желтые розы со сломанными стеблями представляли печальный вид – и, отложив цветы в сторону, затих.
Сверху в яму заглянула Веселовская, желая узнать, жив ли упавший вниз поклонник. Каково же было ее удивление, когда вместо одного человека она увидела трех, лежащих на полу в вольных позах, как если бы они лежали на пляже под щедрым солнцем итальянского юга.
– Боже! – воскликнула Веселовская. – Что вы там делаете?
– Пришли поболеть за Чехова, – отозвался флейтист.
– Потрясающе! – хмыкнула артистка.
И, продолжая кланяться, исчезла из поля зрения лежащих в яме.
Наверху еще некоторое время хлопали и слышались восторженные возгласы. Потом всё стихло.
– Ты кто? – спросил Скобелев у юноши.
– Фанат, – печально констатировал тот.
– Это не профессия! Чем занимаешься?
– Студент…
– Тоже не профессия. Надо же пить, есть!.. Кто тебя кормит?
– Мама, – признался юноша.
– Тогда тебе не следует здесь оставаться, – заметил Птоломеев и пояснил: – Мама плакать будет!
Неожиданно в оркестровой яме, источая запах дорогих духов, с бутылкой шампанского и пластиковыми стаканчиками в руках, в сопровождении гримерши появилась Веселовская. Щеки ее пылали от возбуждения, глаза радостно блестели.
– Ребята! Мы к вам! – заявила она. – Давайте по глотку шампанского! Французское, настоящее!
– Не хочется… – сказал Скобелев. – Здесь и без шампанского хорошо.
– Глоток шампанского не повредит!
У юноши загорелись глаза, когда он увидел в двух шагах от себя обожаемую им женщину.
– Это вы?
– Я!
Гримерша разлила шампанское по стаканчикам.
– За Чехова! – предложила Веселовская.
– За Чехова… – согласился Птоломеев. И, не удержавшись, ядовито добавил: – Текст сегодня врали безбожно!
Лежащий Скобелев удержал его за руку.
– Будь добрее.
– Ты прав, – согласился флейтист.
Веселовская оглядела оркестровую яму.
– А здесь мило, – сказала она. – Никогда не думала, что тут так уютно… И сквозняков нет, как на сцене.
– Нам здесь тоже нравится, – сказал Птоломеев. – Это место незримо пропитано музыкой… Здесь играли Штрауса, Оффенбаха, Легара!
– А какое здесь ночью небо! – вздохнул мечтательно Скобелев.
– Небо? – удивилась Веселовская и так же, как утром Фельдман, посмотрела вверх на угасшую к этому времени люстру.
– И давно вы здесь? – спросила гримерша.
– Я – вторые сутки, – сказал Скобелев.
– А я – первый день, и мне хорошо! – сообщил флейтист. Затем кивнул в сторону юноши: – А молодой человек, как вам известно, появился здесь полчаса назад.
Веселовская глотнула шампанского.
– Ну а как насчет… – она замялась, – туалета для нужд и прочее?
– Здесь в этом нет необходимости, – ответил Скобелев.
– Как это?
– Вот так. Здесь и есть не хочется…
– Что же это, получается, вы святым духом питаетесь?
– Вроде того.
– Надо же!
Веселовская и гримерша, допив бутылку, ушли.
Ночью флейтист увидел небо. Оно как-то неожиданно распахнулось над залом, черное, будто бархатное, с множеством ярких мерцающих звезд. У Птоломеева перехватило дух. «Господи! – подумал он. – Все эти годы я делал непонятно что. И не видел этого неба!»
Скобелев, наблюдавший эту картину накануне, был готов к подобному преображению потолка. В очередной раз на него снизошло умиротворение.
Юноша от пережитых волнений к этому времени уже крепко спал.
На другой день, отыграв положенный спектакль, Веселовская опять появилась в оркестровой яме. Была она в джинсах и свитере. В руках держала обшитую аппликацией подушечку. Следом за ней шла ее свита, состоявшая из трех человек: гримерши, подруги артистки – полноватой дамочки лет тридцати восьми с короткой стрижкой, и какого-то высокого мужчины с одухотворенным лицом и в очках. Каждый нес с собой по подушечке.
– Мы к вам! – заявила Веселовская. – Примете?
Юноша, несколько загрустивший к вечеру, увидев ее, оживился.
– Ну что же, – сказал Скобелев. – Располагайтесь!
– А как же ваши спектакли, Мария Ивановна? – спросил юноша. – У вас в этом месяце еще два Чехова и один Теннесси Уильямс.
– Обойдутся без меня – есть второй состав… – Веселовская сдвинула в сторону пюпитр и легла на пол, положив под голову принесенную подушечку.
Гримерша последовала ее примеру. А потом и подруга с мужчиной расположились на полу.
– Хотела взять с собой мобильник, – сказала Веселовская, – а потом подумала: ни к чему он здесь! Только отвлекать будет…
Некоторое время все молчали. Вновь прибывшие осваивались в новой среде обитания.
– Удивительное дело, – заметил Скобелев, обращаясь в пространство и трогая свои щеки, – у меня здесь щетина не растет.
– Слушай, Иван… – неожиданно обратился к нему Птоломеев. – Ведь ты же Скобелев?.. Когда-то давно в городе стоял памятник какому-то Скобелеву… – И спросил, то ли в шутку, то ли всерьез: – Уж не тебе ли была оказана такая честь?
– Может, и мне… А может, моему предку, генералу, герою Шипки.
– Он, кажется, еще шашку держал в руке?
– Держал.
– За что ж его убрали?
– А кто его знает.
– Он был царский генерал. – Вмешался в разговор умный приятель Веселовской. – За это и убрали…
Опять некоторое время молчали.
– Какая-то в этой яме особенность, – вновь заговорил приятель Веселовской, поправив очки. – Воздух, что ли, другой… Точно горный!.. Когда я путешествовал по Тибету…
– Лёва! – прервала его Веселовская. – Забудь о своем Тибете… Полежим молча.
Спектакль на другой день всё же отменили – ввиду отсутствия Веселовской.
В зале было темно и тихо. Только звезды нет-нет да и поблескивали над оркестровой ямой ночью. И посапывал во сне юноша, поклонник Веселовской.
На следующее утро приятель Веселовской вдруг радостно сообщил своим товарищам:
– Вы знаете, друзья, второй день у меня ничего не болит… Печень неделю мучила, а теперь – ничего… Словно ее вынули!
Через двое суток к лежащим в оркестровой яме присоединилась большая часть труппы во главе с главным режиссером. Дирижер отказался последовать их примеру, сославшись на то, что не долечил зубы. Отказалась и актриса Кашина, которую упоминал Птоломеев, сравнивая ее с Веселовской. Видимо, не хотела находиться со своей конкуренткой в одном месте.
Работу театра парализовало. Спектакли перестали играть. Попросту играть было некому.
Вскоре к артистам присоединились музыканты и работники цехов. Места всем хватило.
Примерно через неделю после того, как перестали играть спектакли, в театре появился представитель министерства культуры, гладкий человек с кислым выражением круглого лица, посланный выяснить, по какой причине один из ведущих городских театров прекратил работу. В чем дело? Ведь недавно театру выделили крупную денежную сумму в качестве дотации.
Уяснив, что произошло, и немного поколебавшись, представитель министерства тоже залег в оркестровой яме. Отправив предварительно сопровождавшего его помощника к своей жене, чтобы тот передал ей конверт с зарплатой, которую обладатель кислого лица получил в этот день перед отъездом в театр.
На двенадцатый день, желая разобраться в случившемся, в театре появился полковник милиции, направленный туда городской властью. Долго ходил в сопровождении местного охранника по пустым коридорам. Приглядывался, принюхивался… Зашел в зал. Услышал приглушенные голоса в оркестровой яме, подошел.
– Мать моя! – воскликнул он, увидев в яме множество людей, лежащих с блаженными лицами.
– Я отчетливо вижу свое прошлое… – сказал главный режиссер, глядя в пространство. – Ну просто живые картины!
– И я вижу, – заявила скрипачка Фельдман и от удовольствия почесала кончик своего длинного носа.
– Они что, наркоманы? – спросил полковник милиции у охранника.
– Нет.
– Чего же они… здесь лежат?
– Им нравится.
– Ясно, – сказал полковник. И обратился к лежащим в оркестровой яме: – Хотите лежать, граждане, лежите… Но придется бабки платить.
– За что?! – резко вскинул голову главный режиссер, вернувшись из своих живых картин.
– За то, что лежите в неположенном месте, да еще в таком количестве! Вас тут как сельдей… Антисанитария! А я вас крышевать буду. И вас никто не тронет. Лежите тогда хоть до Всемирного потопа!
– Мы не можем платить, мы сюда без денег пришли, – сказал главный режиссер. – Они здесь нам ни к чему.
– Тогда я закрою вашу лавочку!
– Попробуй! – засмеялась Веселовская.
Полковник милиции узнал известную артистку. Поначалу лицо его смягчилось, потом вновь приняло суровое выражение.
– А вас я оштрафую за то, что лежите с мужчиной, с которым не состоите в браке! Я знаю вашего мужа.
– Эк что вспомнили! Я развелась два года назад, – заявила Веселовская.
– Здесь все так лежат. В браке ты или нет… – заметил Птоломеев. И, вынув из футляра свою флейту, сыграл несколько пассажей.
Милицейский полковник налился краской.
– Что же получается, у вас здесь вроде Содом и Гоморра?! – воскликнул он. Видимо, образованный был мужик. Прочитал в молодые годы с десяток книжек.
– Сам ты Гоморра! – обиделся Скобелев, услышавший эти слова впервые.
Полковник побелел от бешенства.
– Сейчас я вызову наряд!
– Слушай, командир! – заявил рабочий сцены Копытов, в прошлом боксер-тяжеловес. – Не гони пургу! – И перевернулся на другой бок.