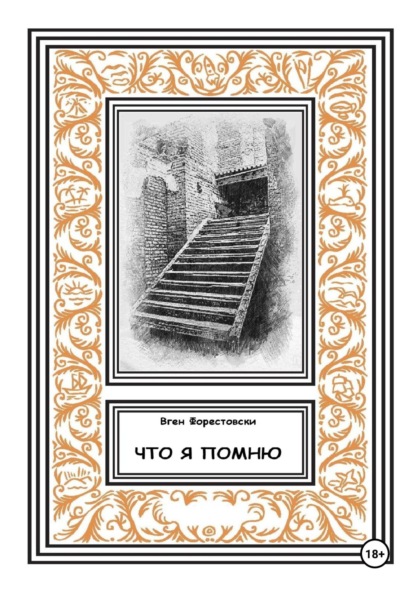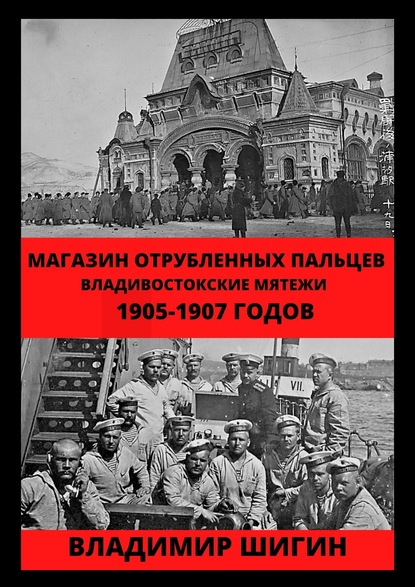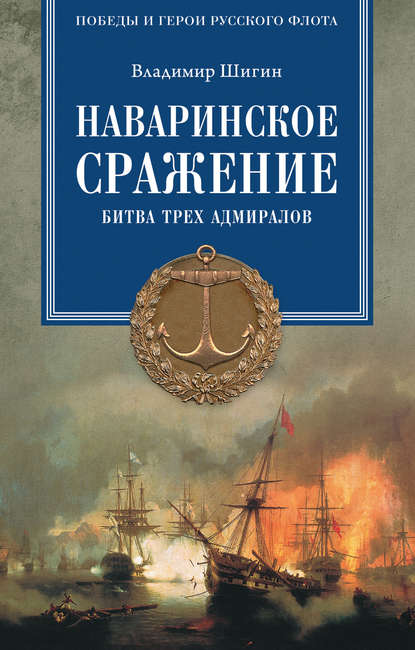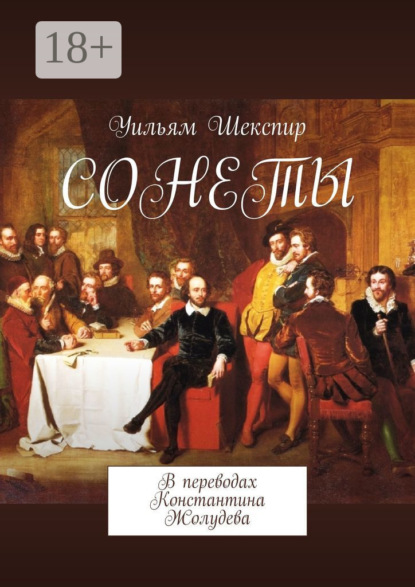- -
- 100%
- +
На полу в прихожей и сенях лежали тканые дорожки, а в комнатах, – ковры из натуральной шерсти, которые, между прочим, дожили до наших дней. В сенях имелось подполье, где хранились овощи и соленья с нашего огорода. Конечно, при этом приходилось бороться с грызунами. Отец ставил в подполье капканы "двойки", применяемые охотниками на куниц. Нередко, сработав, капкан вышибал крысе мозг, или кишки. С тех пор у меня стойкое отвращение и к крысам и к капканам.
Все частные дома в Николаевке имели ставни, и люди не ленились ими пользоваться. В полной темноте переход в состояние сна происходит гораздо быстрее, а сам сон протекает намного спокойней и глубже. Поскольку водопровод в домах отсутствовал, умываться приходилось при помощи рукомойника. Колонка, куда взрослые ходили за водой, находилась в полусотне метров от нашей калитки. Для удобства люди пользовались коромыслами. В нашем доме имелись старинные чугункu и ухваты на длинных ручках. Была даже древняя ручная прялка ("самопряха") Примерно так жили все наши соседи независимо от их социального положения, и эта жизнь казалась всем абсолютно нормальной. Ну, подумаешь, неудобства, – нет водопровода с ванной, и туалет в конце огорода. Зато по вечерам уютно трещала печка, взрослые были всегда чем–то заняты, а я мог спокойно покопаться в земле возле стайки, строя сооружения для игр из камешков и щепочек от поленницы.
В большой комнате у стены, справа от входа, стояло чёрное пианино местной фабрики, там же находились стол-книжка производства ГДР, шифоньер, тумба с ламповым радиоприёмником, телевизор "Рубин", диван и несколько венских стульев. Потолок украшала тяжеленная люстра в стиле ампир, вероятно, 30-х годов прошлого века, из толстого матового стекла в виде еловых шишек, на пять плафонов. Думаю, эта люстра вполне могла бы украсить салон второго класса на “Титанике”. Запомнился один из вечеров. Я, отец и сестра ждали маму, которая задерживалась на работе. Марина играла на пианино, мы пели “Марш Сибирского полка” на стихи Гиляровского и музыку Александрова. Эта песня времён гражданской войны тогда была ещё не забыта. Кто помнит, подпевайте:
По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперёд,
Чтобы с боем взять Приморье -
Белой армии оплот.
Потом я боролся с папой на ковре. Конечно, он мне поддавался, но я думал, что на самом деле укладывал его на лопатки, чем был очень горд. Почему мне запомнился тот уютный и спокойный вечер? Может, быть потому, что таких вечеров в моем детстве было не слишком много.
В голове ещё звучит весёлый отроческий голос сестры. Она задорно пела:
Смелó мы в бой пойдём
За суп с картошкой,
И повара убьём
Столовой ложкой!
Или театрально декламировала:
– Ась?
– А ну, вылазь!
– Щёё?
– Сиди ещё!
Запомнилось множество смешных прибауток Марины из нашего с ней детства, сказав которые один, или два раза, она их больше никогда при мне не произносила. Я никогда не озвучивал их, но услышанное не забывается, продолжая лежать среди пыльного хлама воспоминаний на чердаке моей памяти. Отлично помню, как двухлетним ползуном сидел под столом и жевал тетрадный листок в клеточку. Сестра, застав меня за этим занятием, громко нараспев ябедничала: “Ма-ам, а Женька опять ест бума-агу”.
В маленькой комнате стоял полированный платяной шкаф, два табурета, самодельная тумбочка и две железные кровати с панцирными сетками. Сегодня эти воспоминания не вызывают у меня ничего, кроме тоски и уныния. Жители Николаевки даже не задумывались о том, что из достижений цивилизации XX века у них в доме не было абсолютно ничего, кроме чёрно-белого телевизора. Единственное окно в кухне-сенях выходило на Кум–Тигей (Караульную гору) с одиноко торчащей на её вершине остроконечной часовней. Сегодня этот древний символ города, растиражированный на бумажных российских червонцах, знаком каждому. Ежедневно, садясь за стол обедать, я рассматривал эту каменную башенку и, болтая не достающими до пола ногами, представлял отражение набегов на неё полчищ средневековых киргизов. Если верить Googlemaps, от нашего дома до сооружения по прямой было ровно два километра и четыре метра.
В оконной раме маленькая одинокая часовня на лысой горе с кроваво-красными обрывами смотрелась, как на картине, прямо в центре. Ничего лишнего. Как-то раз мы с бабушкой сходили туда, и я с изумлением увидел, что внутри каменной башни, не имевшей тогда дверей был, мягко говоря, общественный туалет с характерными надписями и неприличными рисунками на стенах.
В 90-е годы символ города восстановили. Часовню ассенизировали, подсветили прожекторами, установили золочёный купол с православным крестом, и поставили у входа списанную армейскую гаубицу. Каждый день, ровно в полдень по указанию городского головы из пушки палили холостыми зарядами, возвещая о новом дне.
Помню худого плешивого соседа, дядю Лёву в майке- алкоголичке и трико с вытянутыми коленками, курящего папиросу в пожелтевшем от никотина белом костяном мундштуке. Дядя Лёва жил в соседнем, доме. Наши участки разделял высокий забор из неокрашенного горбыля с множеством витиеватых щелей. Иногда я подсекал через эти дыры в заборе за нашими соседями. Кстати, во времена моего детства в ходу было совершенно забытое ныне слово “заплoт”, а не “забор”, как мы все привыкли говорить сейчас. Есть даже фотография, запечатлевшая такой момент, – я стою возле нашего заплота в одной полосатой рубашке и ботинках, с голой задницей, и подглядываю в щелочку. На снимке мне меньше двух лет и, что совершенно поразительно, я, хоть и довольно смутно, но всё же припоминаю тот очень бытовой эпизод. Конечно, можно возразить, что моя память зафиксировала события полувековой давности благодаря фотоснимку, сделанному отцом, ведь я видел эту фотографию и в три, и в четыре, и в пять лет… Но перед моими глазами всплывает не просто стоп-кадр, а увиденное ЗА забором, чего на наших семейных фото нет и никогда не было, – видеоряд с копошащимся в своём огороде худым лысым дядькой, напоминающим Небберкрякера из мультфильма "Дом-монстр", пыхтящим папироской возле стопки шифера у деревянной теплицы.
Соседкой по дому была жившая за стенкой одинокая тихая и милая старушка, баба Нина. Помню, она носила на голове белый платок в мелкий чёрный горошек, завязывая его, как бандану. В углу её комнаты, на полочке стояла, очевидно, очень старая, почерневшая от времени православная икона, написанная на деревянной доске без оклада. По воскресеньям Баба Нина ходила в единственную действующую в городе Троицкую церковь и тихонечко верила в Бога. Изредка я с мамой, или бабушкой бывал у неё в гостях. Взрослые неторопливо беседовали, и мы все вместе пили чай со сладостями.
Мама очень уважала бабу Нину. Я не задавал лишних вопросов. Достаточно сказать, что на моей памяти до смерти бабушки, мама была на одних-единственных похоронах, на похоронах бабы Нины, умершей лет через пять после того, как мы уехали из Николаевки. Я хорошо запомнил кисти рук бабы Нины. Худые, веснушчатые, с высоко выступающими сухожилиями, обтянутыми коричневатым пергаментом старческой кожи. Такие руки любят изображать художники на портретах пожилых людей, проживших нелёгкую жизнь, старательно выписывая каждую морщинку и пигментное пятнышко.
В углу маленькой кухни стоял неубиваемый временем холодильник “Бирюса”. Не удивлюсь, если он и сейчас где-то исправно служит. Напротив холодильника находилась печка. Я обожал, сидя на корточках, смотреть сквозь щели вокруг чугунной дверцы на мерцание в ней огня. Зимой, по утрам, бабушка грела над тёплой печкой нашу с сестрой детскую одежду, которую мы быстренько одевали, пока не остыла, собираясь в садик и в школу.
Соседских мальчишек я почти не помню. Разве что, Славку, но он был старше года на три. Раз, или два мы с бабушкой бывали у Славки дома, она навещала там свою знакомую, вероятно, его бабулю, мне было не больше четырёх лет, но я мог бы и сейчас максимум со второго раза найти тот дом на чётной стороне улицы, в низине, по дороге к путепроводу. Славка уже вырос, но делал вид, что ему со мной интересно. Помню, как Славка показывал мне свои игрушки, хранящиеся в большом старинном сундуке. Такие сундуки позапрошлого века ещё встречались в домах старой деревянной Николаевки. Некоторые сундуки были такими огромными, что на них можно было спать, чуть поджав ноги.
Не припомню, чтобы я маялся от скуки и безделья. Места в доме было, конечно, маловато, но в моём распоряжении был огород, поленница под навесом, стайка с бытовым хламом и отцовская мастерская. Я рано научился забивать молотком гвозди. Сначала криво и не красиво, загибая их в бок, травмируясь, но многократно повторяя неудачные попытки, постепенно добился весьма сносного результата. Мне нравилось что–нибудь заколачивать, закручивать, строгать, или пилить. Такие развлечения были у четырёхлетнего пацана, жившего в частном подворье. Даже как-то странно, что у меня на руках остался полный набор из десяти пальцев.
В сотне метров от дома проходила железная дорога. По рельсам стучали проходящие мимо поезда, а по ночам, в тишине, были слышны строгие монотонные голоса женщин-диспетчеров, оповещавших по громкой связи о передвижении составов, и действиях рабочих–путейцев. Долгое время я не любил поезда за их шум и исходящую от них опасность. Особенно мне не нравились пыльные, вечно спешащие куда–то товарняки, летевшие, как угорелые на всех парах с длинными пронзительными гудками, неся за собой тяжёлые вереницы перепачканных мазутом цистерн, загадочные разноцветные контейнеры с непонятными надписями и открытые платформы с горками угля или щебня. С возрастом я привык, и даже полюбил звуки поездов. Есть в них что–то умиротворяющее, вероятно потому, что это то немногое, что совсем не изменилось со времён моего детства.
На ночь бабушка закрывала оконные ставни, от чего в комнате становилось безнадёжно темно и дом погружался в тишину. Хочешь–не хочешь, приходилось спать. Когда лёжа в кровати один я долго не мог заснуть, в полной темноте мне казалось, будто кто-то за окном жутковатым низким голосом монотонно повторял одно и то же слово: “…след, след, след, след…” До сих пор не пойму, что это было – плод детского воображения, или звуки железной дороги.
Одними из моих первых игрушек были тяжёлый рычаг от мясорубки с красной деревянной ручкой, и резиновый надувной олень, подаренный дедом. Рычаг был моим “пистолетом”, мне часто прилетало им по голове во время прицеливания, когда его ручка, прокручиваясь на своей оси, делала оборот вокруг неё.
Помню лавочку у калитки, высокие ворота и жестяной номер на доме, с подсветкой и названием улицы. Недавно я видел подобный в антикварном магазине. Об асфальте в таких районах не было и речи. Что там творилось весной…
В хорошую погоду мы с бабушкой гуляли по Куйбышева, прихватив с собой игрушечную машинку на верёвочке, или пластмассовый лук со стрелами и колчаном. Бабушка стреляла из лука вверх, потому что у меня ещё не получалось пустить стрелу высоко. Я просто стоял, задрав голову и смотрел на то, как она это делает.
Оказывается, если напрячь память, перед глазами всплывают и, как фотокарточки в кюветке, начинают проявляться картины прошлого, о наличии которых у себя в голове я даже не подозревал. Я думал, что если о чём-то очень долго не вспоминать, память о событии навсегда стирается за ненадобностью. При работе над книгой открылась одна очень странная особенность памяти. Вспомнив что-то очень далёкое, вернуться к тем же воспоминаниям через какое-то время становится труднее. В памяти всплывают уже не столько сами события, сколько последние воспоминания о них. Я где-то читал, что наши воспоминания каждый раз перезаписываются при обращении к ним, как закольцованная магнитная проволока в "чёрном ящике" самолёта. Эта особенность чертовски мешает наведению резкости при взгляде на своё прошлое.
Припоминаю зиму в Николаевке. Замёрзшие окна с ледяными узорами, подвывающая вьюга, потрескивание дров в печке, клубы белого пара по полу из-под закрывшейся за кем-то двери в сенях…
Одно из первых воспоминаний: раннее утро, бабушка везёт меня на санках в садик. Я вижу только её спину в поношенном тёмно-синем пальто с рыжим лисьим воротником и слушаю, как под её валенками хрустит снег. На улице ещё совсем темно. Колко светят звёзды, я полулежу, укутанный до глаз пахнущей козой шалью, и обречённо смотрю, как на фоне фонарных ламп холодной белой мошкой суетливо кружат мелкие снежинки. Мы пересекаем деревянный настил, сколоченный вровень с рельсами специально для пешеходов с колясками и санями. Попутные острые камешки на промёрзших досках с противным скрежетом царапают металлические полозья. Наконец, санки бесшумно выкатываются на утоптанную дорожку. Тёмный ряд гаражей, пара попутных пятиэтажек, и вот он, "красный дом", детский сад-ясли железнодорожного района, чёрт бы его побрал.
Помню большого снеговика у дверей дома. С глазами из угольков и носом из настоящей морковки. Было всё, как полагается, – и метла, и дырявое ведро на голове. Снеговика делали совсем ещё молодые отец с мамой, чтобы порадовать нас с сестрой. Светлое воспоминание.
Жизнь – игра. Сюжет так себе,
зато графика ох…ительная!
Геймерская шутка 90-х
Осень 68-го
В шестидесятых годах родители запросто отпускали погулять во дворе близлежащих домов совсем маленьких детей не боясь, что ребёнка кто–то куда–то заманит, что он выбежит на дорогу, травмируется на качелях, или его покусает бродячая собака. Никто не считал это безответственным, это было нормально. Советская идеология проповедовала идею о том, что маньяки это явление, присущее исключительно загнивающему Западу, в СССР их быть не может по определению.
Заблудиться в Николаевке было невозможно. Система улиц была простой и понятной даже ребёнку, пересекались они строго перпендикулярно, как стрит и авеню. Под присмотром пятилетнего ребёнка родители запросто могли отпустить гулять его младшего брата, или сестрёнку. Подходить к железнодорожным путям было строго-нaстрого запрещено взрослыми.
Я застал времена, когда мальчишки кое-где ещё поигрывали в чижа, в городки, гоняли колёса на палочке с крючком, но в основном практиковались игры с мячом: футбол, волейбол, одно касание, и им подобные. Девочки играли в “выжигала”, классики, крутили обручи, прыгали со скакалками, или болтали о чём–то своём, собравшись в тени, под тополем, на соседской лавочке. Беззаботно хохочущие девчонки в самодельных веночках из дворовых одуванчиков и ромашек были непременным атрибутом летних николаевских двориков. Теперь те забытые игры кажутся экзотикой, а слово "жмурки" ассоциируется только с плохим фильмом про карикатурных бандитов. Я уже и не помню, когда в последний раз видел разлинованные мелом клеточки на асфальте.
В сухие жаркие летние дни на Куйбышева бывало очень пыльно. Стоило подняться даже совсем небольшому ветерку вдоль незаасфальтированной дороги, как приходилось щурить глаза, прикрывая лицо рукой. Пару раз я был свидетелем, как, перед грозой, ветер поднимал вверх тонкие кривые столбики пылевых вихрей. Точно такие я видел на кадрах, снятых американским марсоходом "Perseverance".
Жизнь в посёлке полна бытовых забот. Колка дров, доставка воды, уход за огородом. Поскольку водопровод в домах отсутствовал, а стиральные машины были далеко не у всех, бельё в Николаевке стирали большей частью вручную, на стиральных досках, в серых цинковых ваннах, или эмалированных тазиках. Затем его сушили во дворах, на длинных верёвках, приподнятых жердью. В нашей стайке с незапамятных времён хранилось старое деревянное корыто с чёрной трещиной по всей его длине. Вероятно, оно тоже когда-то использовалось при стирке, пока не превратилось в реквизит для сказки о Рыбаке и Рыбке.
Запомнилась женщина-инвалид, лет сорока с высоко ампутированной ногой. На женщине была болоньевая куртка и юбка чуть выше колена. Было странно, непривычно и даже, как-то жутковато видеть одну ногу в юбке. Стоя на крыльце детского сада, женщина о чём–то беседовала с воспитательницей, опираясь на деревянный костыль.
Дядя Толя Кучерук. Грубоватый пьющий шофёр старенького зелёного грузовичка иногда захаживал к нам в гости. Он был очень худой и болезненный. Мама говорила, что дядя Толя алкоголик. Кучерук, вроде бы, рано умер. Откуда этот человек и что могло быть у него общего с моими родителями я не знаю. Вероятно, этот дядька с забавной фамилией был наш сосед.
Взрослые люди в шестидесятых годах прошлого века были куда спокойнее и учтивее. Они никуда не спешили, охотно общаясь друг с другом. Женщина-почтальон, лет сорока, носила на плече большую кожаную сумку поверх форменной куртки с почтовой эмблемой, выданную ей явно не по размеру. Видимо, женщина работала в нашем районе уже давно, так как все знали её по имени и жители посёлка могли подолгу о чём–то разговаривать с этой неприметной тётенькой, остановившись у дороги на пол-пути в “Пороховушку”, или с вёдрами, наполненными водой, у колонки.
Иногда в наши края наведывался штатный участковый милиционер, – худой дядька с рыжими пшеничными усами, в голубой форменной рубашке, галифе, пыльных хромовых сапогах и в портупее. Сотрудники МВД в 60-е годы продолжали восприниматься взрослыми людьми, скорее, как угроза, нежели, как блюстители порядка. Время от времени родители, увидев милиционера в форме, пугали своих непослушных детей: "Будешь себя плохо вести, дядя милиционер заберёт в милицию." Дети, не заставшие прежние времена, милиционеров совершенно не боялись, видя в них образ михалкoвского Дяди Стёпы, который и защитит, и поможет, и воробушка достанет, если нужно. Насколько я припоминаю, милиция в моём детстве вполне соответствовала описанию книжного героя. Местные мальчишки, завидев инспектора, бежали за ним и кричали: "Дяденька милиционер, а покажите, пожалуйста, пистолет!" Участковый со вздохом останавливался, расстёгивал висящую на ремне коричневую кобуру и,показывая её внутренности, говорил: "Да нет у меня никакого пистолета, вот видите? Пусто!"
Интересно, как отреагировали бы мы в детстве на нынешних ОМОНовцев, или гвардейцев. В мирное время, средь бела дня, в центре города, эти блюстители общественного порядка в кирзовых берцах напоминают, скорее, "коммандос" из компьютерных стрелялок, вышедших на задание в тыл врага.
Летом николаевские улицы утопали в зелени. В основном это были старые тополя. Под окнами, люди высаживали рябину, черёмуху, берёзки и яблони. Зимой деревья стояли в снегу, красивые, как на новогодней открытке. Мне всегда нравилась осень. Когда ещё слепит солнце, но воздух уже прохладен, листья на деревьях меняют свой цвет, и небо из голубого становится ярко-сиреневым. С большой вероятностью то, о чём я сейчас расскажу, произошло в конце сентября 1968-го года.
Практически всё детство, где бы мы ни жили, я был самым младшим среди нашей дворовой компании, поэтому, как правило, меня никто не обижал, иногда я даже имел какие–то поблажки и фору в командных играх. Вечером, уже на закате, мы с местными мальчишками пошли гулять и наткнулись на копошившихся в жидкой грязи слепых котят. Они беспомощно барахтались в луже, на дороге у частного дома. Не могу припомнить, что за ребята были со мной. Всего их было человека три, или четыре, вероятно, самому старшему из нас было лет восемь, или девять. Не помню ни одного имени, не могу описать внешность, или ещё как–то индивидуализировать этих пацанов, но я помню их голоса, интонации, их отношение к увиденному. Мы понимали, что если мы уйдём, беспомощные животные погибнут от голода, их раздавит случайно проезжающий автомобиль, или разорвут местные собаки. Кто-то из мальчишек сказал, что котят выбросила бабка, жившая по соседству. Человеческая жестокость шокировала своей непосредственностью. Сегодня, глядя на карту, я совершенно убеждён, что события, о которых сейчас вспоминаю, происходили у дома номер два на улице Невской, в полутора сотнях метров от наших окон. Мы смотрели на котят, жалели их и сердились на взявшую грех на душу неизвестную старушку. Предвидя реакцию своей мамы, я не решился принести домой живность, а мальчишки постарше взяли с собой 2-х, или 3-х из 4-х, или 5-ти котят. Я подумал: что, если я принесу котёнка домой, а меня заставят отнести его обратно? Или выкинут его у меня на глазах теперь уже за нашу ограду? "Отпустят", так сказать. Весь мой маленький жизненный опыт подсказывал мне, что скорее всего именно так и произойдёт. Хоть мы и жили в частном доме, почему-то у нас никогда не было ни собак, ни кошек. Мама не раз повторяла, что содержание животных – "большая ответственность", давая тем самым понять, что это не наш вариант.
Вернувшись домой в подавленном настроении, я рассказал об увиденном маме. Она ничего не ответила. Потом она меня мыла. На столе у печки стоял эмалированный таз, в тазу – голый и чумазый я. Мама поливала меня тёплой водой из синего эмалированного кувшина. Пожалуй, это моё первое длящееся во времени серьёзное воспоминание о детстве, как сказали бы сейчас, в формате “5D”, со звуком, запахами и ощущениями собственного тела, не говоря уже о проявлении обычных человеческих эмоций и детских душевных метаниях. Мне было три с половиной года. Примерно, сорок месяцев отроду.
Бытовые подробности
Моё поколение застало множество архаичных предметов из навсегда ушедшего прошлого. Вещи которыми на протяжении веков повседневно пользовались наши предки, вдруг стали ненужными, или были вытеснены современными аналогами. Людям, видевшим угольные утюги только в кино, или музее, кажется, что пользоваться такими могли разве что до революции. На самом деле в ходу они были достаточно долго и выпускали их вплоть до 60-х годов прошлого века. Я видел, как таким утюгом пользовалась наша соседка.
Летом, чтобы не топить печь, для приготовления пищи многие жители Николаевки пользовались примусом, или керогазом. В каждом доме на случай отключения электричества имелась керосиновая лампа. Уют создавали своими руками. Женщины шили скатерти, вышивали салфетки, постельное бельё, занавески на окна. Вышивка с обмётанными по краям дырочками, под красивым названием "ришелье" имелась в каждом доме, два одинаковых узора встретить было невозможно. Умение вышивать считалось естественным и передавалось из поколения в поколение. Любая девушка с детства умела управляться с пяльцами, нитками мулине, крючком и спицами. Я не знал ни одной семьи, в доме которой не было бы ручной немецкой швейной машинки "SINGER" довоенного производства. На моих глазах произошла революция письменных приборов. До 1970 года шариковые ручки в СССР были редкостью. При средней зарплате 110, стоила самая простенькая ручка 2 рубля. Сменные стержни с чернилами являлись огромным дефицитом, к тому же среди них был высок процент производственного брака, поэтому большинство людей по-старинке продолжали пользоваться перьевыми ручками с пипеточной, или поршневой заправкой чернил. Избегая социального неравенства и стремясь к единообразию, советские школы так же не спешили переходить на шариковые ручки, запрещая ими пользоваться до тех пор, пока они не стали общедоступны. Пару раз в неделю сестра доставала из тумбочки угловатые стеклянные баночки с фиолетовыми, или синими чернилами, садилась за стол, и прилежно заполняла ими колбы своих письменных приборов. Обычно у учеников имелось две ручки, – основная, и запасная. Для начала ручки нужно было разобрать, помыть от остатков чернил и тщательно высушить. Только после этого следовал ритуал заполнения чернилами с неизбежными кляксами на подстеленном листочке, протиранием ручек специальной тряпочкой и обязательной окончательной пробой пера. Кстати, перьев было великое множество, в зависимости от целей и назначения они производились под различными номерами и имели отличное друг от друга строение и форму. В школе мне довелось немного пописать перьевой ручкой с пером № 11, в просторечье – “звёздочка”. Сколько пиджаков, портфелей и фартуков пострадало от протекания чернил, история умалчивает.
К середине семидесятых годов советские школы окончательно перешли на шариковые ручки. Очень жаль. По моемý мнению, именно перьевые ручки необходимы для правильного обучения письму. Те, кто учился обращаться с пером, писали определённо иначе, не спеша, старательно, чувствуя нажим, изменяющуюся ширину линий, понимая красоту каллиграфии. Я уже не говорю о том, что с раннего возраста ученики приучались к аккуратности и чистоте, ведь им приходилось постоянно думать и заботиться о том, чтобы не испачкать пером пальцы, парту, или одежду. Даже сам предмет обучения владению пером назывался завораживающе-красиво – "чистописание". Сначала в школах шариковыми ручками разрешалось писать только в старших классах. Как минимум до девяти лет детей обучали письму пером. Никаких левшей при этом быть не должно. Всех учили писать строго правой рукой и, надо сказать, переучивали всех. Письмо перьевой ручкой обязывало к аккуратности, неторопливости и напоминало традиции древневосточной культуры "сёдо".