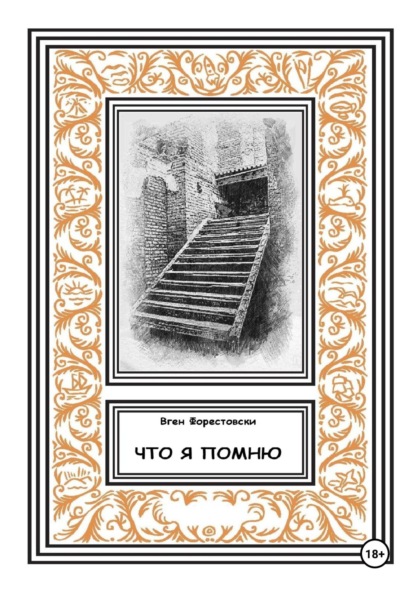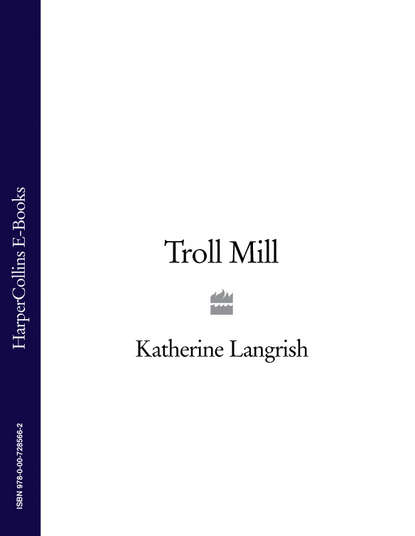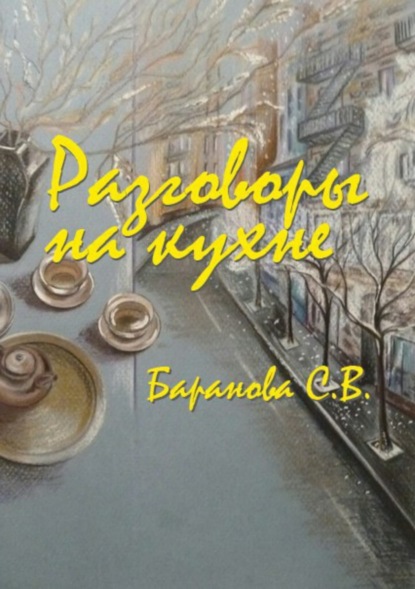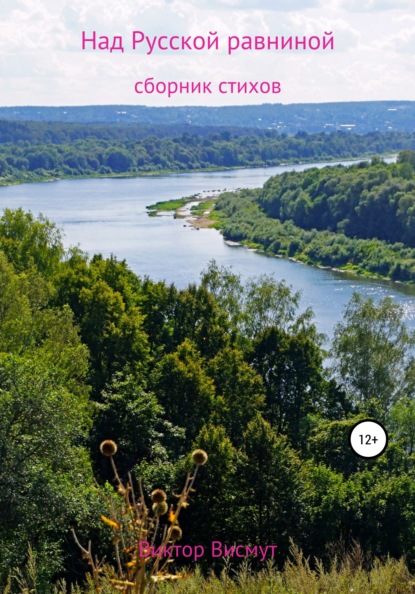- -
- 100%
- +
Среди гула двух десятков голосов в памяти далёким эхом звучит скрежет железных осей игрушечных машин, которыми дети играли в садике, катая их по лакированному паркетному полу. В позднем СССР выпускали довольно “топорные” и уродливые игрушки из штампованной окрашенной жести. Порой нужно было иметь довольно абстрактное мышление, чтобы узнать в подобных образцах их истинные прототипы. Мне посчастливилось застать времена, когда ещё встречались игрушечные самосвалы, пожарные машины и стреловые краны с лебёдкой, сделанные максимально близко к оригиналу. Их уже не было в продаже, но иногда подобные экземпляры встречались в детсадах, или у знакомых повзрослевших школьников. Из штампованной жести делали самые разнообразные игрушки. От автоматов и пистолетов для мальчиков, до кукол и зверюшек с заводными механизмами для девочек. Но основную массу железных игрушек составляла всё же моторная техника: грузовики, легковые автомобили, подъёмные краны, бетономешалки, трактора и погрузчики. Дети с малых лет приучались к мысли о том, что многие из них получат рабочие специальности и пересядут с виртуальных сидений своей игрушечной техники за рули, педали и рычаги самой что ни на есть настоящей. Ни у кого из моих друзей в семьях не было собственного автомобиля, я лишь изредка ездил на заднем сиденье такси с кем – нибудь из взрослых, мечтая посидеть на водительском месте. Помню, как однажды мне разрешили это сделать.
Вместе с мамой на кафедре философии работал её коллега, фронтовик, орденоносец, Юрий Георгиевич Мaнышев. Один раз Юрий Георгиевич возил нас с мамой куда-то за город на своей двадцать первой "Волге". Помню, как заворожено я смотрел на её бирюзовый спидометр, с каким восторгом трогал блестящую фигурку бегущего оленя на выпуклом капоте. Когда на какое–то время меня оставили в кабине одного, я оторвался по–полной: нажимал на всё, что нажималось, бибикал клаксоном, пытался крутить руль, урчал, подражая звуку мотора, наверняка залил бензином свечи и израсходовал весь запас воды из бачка омывателя “дворников”. Это было просто счастье! Пожилой калмык не обращал на меня никакого внимания. Он был спокоен, как тибетский Лама. Это был мой первый и единственный опыт общения с настоящим автомобилем вплоть до получения собственного водительского удостоверения.
Машинки, сделанные из железа, быстро ржавели, издавали ужасный скрежет при движении, но играть ими было чрезвычайно интересно, ведь они максимально приближали ощущения от игры к реалиям взрослой жизни. Мы строили города и дороги, ездили “домой, обедать”, “проведать семью”, помогали друг–другу в сложных ситуациях, разыгрывали самые невероятные житейские и рабочие сценки, придумывали дорожные приключения и проживали сотни жизненных историй, казавшихся нам актуальными. Для меня было важно, что в игрушечной кабине есть руль и сиденье, а при наличии открывающихся дверей можно было имитировать посадку и высадку шофёра. При помощи специальной рукоятки, приводящей в действие червячный механизм, можно было плавно, именно так, как это происходит у настоящего самосвала, поднимать и опускать кузов. Такие игрушки имели просто чудовищный запас прочности. Сломать их было невозможно, их можно было только разобрать при помощи пассатижей, молотка и отвёртки.
Помню жаркое лето шестьдесят девятого. Я устало плетусь за бабушкой мимо теперь уже не существующего кинотеатра "Мир", пыля сандалиями и везу за собой на верёвочке игрушечный пикап, купленный в попутном магазине. Машинка, то и дело, падает на бок. Мне надоедает ставить её на колёса. Какое-то время игрушка волочится за мной, громыхая по неровной дороге. Жестяной пикап гремит и скрежещет, а бабушка идёт рядом, как будто не замечая этого…
ВРEДНЫЙ:
1. причиняющий вред, опасный,
2. неприязненно настроенный.
Толковый словарь Ожегова
Вредный
"Вредными" некоторые взрослые из моего детства называли упрямых, своенравных и непослушных детей. Не захотел пить тёплое молоко с жирной плавающей пенкой, – "вредный", не лёг вовремя в постель, не так сделал, как кому-то хотелось – "вредный!" Чем–то не угодил старшей сестре, опять "вредный". Но что такое "вредный" на самом деле? Это приносящий кому-то вред. А кому я навредил тем, что не люблю пенки в молоке, не могу вовремя заснуть, или не хочу закатывать рукава у своей рубашки?
Воспитывая собственных детей, я видел в них всё то же самое, что взрослые видели во мне, когда мне было несколько лет от роду. Уж каких только истерик детки в этом возрасте мне не закатывали. Я, конечно, не педагог, и не семейный психолог, но прекрасно отдаю себе отчёт в том, что мои дети именно такие, какими воспитал их я, и претензии нужно предъявлять только к себе.
Детсад на Маерчакa располагался в жилой сталинке, он занимал левое крыло первого этажа могучей четырёхэтажки. В названии пятикилометровой улицы, носившей имя местного революционера, слышалось забавное сочетание слов, многие её так и называли, – улица имени майора ЧК.
Помню единственное помещение с высоченным потолком. В нём размещалась наша младшая группа, в ней мы проводили всё отведённое на наше воспитание время, там же мы и спали во время дневного сон-часа, места для этого было предостаточно.
Я был самым обычным сереньким, не претендовавшим на роль лидера и сторонившимся конфликтов неприметным ребёнком. Запомнилось имя самого непослушного пацана. Его звали Олег Москалёв. Не то, чтобы он шибко докучал, или дрался со всеми, нет. Он демонстративно не подчинялся взрослым и делал, что хотел. Втайне я завидовал этому смелому мальчику. Во время тихого часа все дети делали вид, что спят, а Москалёв мог сидеть и шумно играть на своей кровати, изображая из деревянной указки и своего кулака машину для забивания свай. Он мог бегать и орать, когда и где ему вздумается. Уж не знаю почему, но воспитательницы даже не пытались его приструнить. То ли блатной, то ли псих.
Однажды в нашем садике воспитательница надолго оставила детей без присмотра. Ребятишки стали баловаться, раскачивая стоящее у стены пианино, которое, в конце-концов, упало и убило пятилетнюю девочку. Молоденькая воспитательница объяснила своё отсутствие в группе тем, что дети её не слушались. "Вредничали".
Ниже, в одной из глав, я упомяну парней-студентов, приходивших в гости к моей сестре, во времена, когда она училась в университете. Мне было 11-ть, а им уже по девятнадцать, или двадцать лет. Согласитесь, разница в возрасте и жизненном опыте колоссальная. Эти парни никогда не подтрунивали надо мной, не задавали провокационных вопросов, а на мои всегда отвечали серьёзно и без тени насмешки. Почти все люди поколения моих родителей, посещавшие наш дом, вели себя ровно противоположно. Их интересовало два вопроса: кого я больше люблю: маму, или папу, и на к ом женюсь, когда вырасту. На вопрос про папу и маму, когда мне его задали впервые, я ответил честно и не задумываясь: “Бабушку!” Потом меня, конечно, научили, как надо отвечать “правильно и политкорректно”: “и маму, и папу”. Не понимаю, что могло побуждать взрослых людей задавать подобные вопросы маленькому ребёнку, да ещё в присутствии обоих родителей. Закомплексованное поколение, то ли недолюбленное из-за своего военного детства, то ли недолюбившее, в связи с "отсутствием секса в СССР", державшее свои тайные желания в строгом ошейнике на коротком поводке, как будто отыгрывалось на собственных детях. Эти люди, как старая дева-гувернантка, заставшая воспитанницу за рукоблудием, громко осуждали других за то, чем в тайне регулярно занимались сами.
В шестом классе одна из девочек принесла в школу толстый западно-немецкий рекламный журнал с очень смелой, даже по сегодняшним меркам рекламой женского нижнего белья. Естественно, пацаны тут же принялись его рассматривать, хохоча, и живо обсуждая увиденное. Наша классная руководительница быстро пресекла процесс греховного созерцания и вызвала в школу родителей его участников. "Не ожидала от своего сына… И смех у тебя какой-то не детский…", – стыдила меня за моё отроческое любопытство мама, – Самое ужасное, что мне тогда на самом деле было очень стыдно, как будто я был пойман на воровстве, или за подглядыванием в женскую раздевалку. Открыто интересоваться противоположным полом, тем более, в подростковом возрасте по мнению наших родителей и педагогов было верхом невоспитанности и бесстыдства. Удовольствие – грех, сексуальность – стыд, открытое выражение чувств – позор. Так и жили. Семнадцатилетнюю Женю Л из 10-го "А", заподозренную в связях с двадцатилетним парнем, и принявшую, в ответ на унизительную травлю горсть таблеток элениума, откачали лишь чудом.
Очевидным фактом является то, что с уходом советского поколения, сами-собой начали разрешаться многие проблемы взаимоотношения детей и взрослых, как в семьях, так и в учебно-воспитательных учреждениях. Перестали быть нормой физическое насилие и пошловатые сaльности в отношении общения мальчиков и девочек, вышло из обихода совершенно неуместное прилагательное "вредный" по отношению к детям, но унижение, как метод воспитания, как был, так и остался в тренде.
Книжки из детства
Конечно, в детстве мне, как и большинству советских детей, читали книжки, в том числе, достаточно много стихов, но учить их наизусть не требовали, поэтому какое–то время я обходился без публичной демонстрации своих драматических способностей. Но однажды нашей воспитательнице в детском саду в голову пришла идея занять мающихся от скуки детей чем-нибудь полезным, при этом, особенно не напрягаясь самой. Умастив попу на маленький детский стульчик и расположив нас возле себя полукругом, воспитательница попросила каждого рассказать стишок, кто какой знает. Рассказали все. Я до последнего надеялся, что очередь до меня не дойдёт, а когда дошла, почему-то не смог признаться, что не знаю наизусть ни одного приличного стихотворения. Прочитал очень серьёзно и громко, почти прокричал на одном дыхании стих, услышанный ранее от сестры:
Жили-были дед да баба,
Ели кашу с молоком,
Рассердился дед на бабу,
Бац! По пузу кулаком.
Баба не стерпела,
В подполье улетела.
А в подполье – рак.
Кто слушал, тот дурак!
Припоминаю, как наша молодая воспитательница хохотала, а потом сбегала на кухню за бабушкой, которая работала в садике поваром, привела её в группу и рассказала ей о моём публичном фуроре. Я готов был провалиться сквозь землю от стыда…
Наверняка, каждый помнит любимые книжки своего детства. Для меня это были стихи Пушкина, Есенина, Барто, просил бабушку перечитывать по много раз кавказскую сказку “Дзег, сын Дзега”, Волкова, Олешу, сборник индийских сказок…
Запомнились цветные комиксы из детских журналов "Весёлые картинки" и "Мурзилка". История про мальчика по имени Ань Тхо, воюющего со злыми американцами была жёсткой сатирой на войну США с коммунистическим режимом в северном Вьетнаме. Следом шли не менее патриотические саги про заграничные похождения советского паренька, Пети Рыжика, и милую карикатурную малолитражку, которой высокомерные "Мерседесы" и "Кадиллаки" жадничали капельку бензина для участия в гонках. Я обожал рассматривать эти картинки и, конечно же, был на стороне униженных и бедных героев.
Дети народ аполитичный, поэтому первостепенное значение я придавал забавным и динамичным картинкам, не шибко вникая в надписи под ними. От нарисованных историй у меня остались тёплые мальчишеские воспоминания, просто, как о красочных вестернах из далёкого прошлого. Каково же было моё разочарование, когда спустя много лет я отыскал их, пересмотрел, и осмысленно перечитал текст…
Первой книжкой в твёрдом переплёте, которую я прочитал самостоятельно, была “Сказка о ветре в безветренный день” Софьи Прокофьевой. В книжке имелись иллюстрации, помогающие представить облик главных героев и действующих лиц. Именно иллюстрации сподвигли меня на самостоятельное чтение.
До начала 70-х годов издавалось довольно много книг для детей, с красочными, или чёрно-белыми картинками, которые было приятно взять в руки. Их можно было просто листать, легко догадываясь о том, что в них написано, не читая. Постепенно картинки в книжках деградировали и к середине 70-х исчезли окончательно.
Не представляю, как можно воспринимать "Волшебника Изумрудного города", или "Бурратино" без иллюстраций Леонида Владимирского. В юности я обожал серию "Библиотека приключений и научной фантастики" с репродукциями Евгения Мигунова. Без его иллюстраций многие не осилили бы довольно слабые по содержанию "Приключения капитана Врунгеля" Андрея Некрасова, или пенталогию Евгения Велтистова про Электроника и собаку Рэсси. Совершенно непонятно, почему у нас в стране перестали иллюстрировать художественную литературу. После чтения книжек вслух кем-то из взрослых, можно было часами рассматривать нарисованные сюжеты, в сотый раз прокручивая в голове их содержание. Бывали, конечно, и исключения. Например, за иллюстрации к советскому восьмитомнику Чехова, или визуализацию глав самого известного романа Дефо, неким столичным художникам стоило бы, по-хорошему, руки оборвать, но, пожалуй, пусть уж лучше так, чем совсем без картинок.
Сегодня, в считанные секунды можно получить доступ к любому интересующему нас тексту. Но разве могут сравниться ощущения от электронных копий с бумажными оригиналами, тем более с книжками, которые мы держали в руках много лет назад… На страницах этих книг всегда можно отыскать следы, и отметины, сделанные нами в детстве. Щелчок секундомера, и в мыслях мы уносимся со своими воспоминаниями, как будто падая в головокружительную пропасть на невидимой тарзанке. Достаточно пары секунд, чтобы “вспомнить всё”. То самое время, ту обстановку, и сопутствующие ей события, чтобы почувствовать что–то необъяснимое, эти самые “бабочки в животе”.
Повесть Владислава Крапивина “Тень каравеллы” я прочитал летом 1973-го года, а затем перечитывал и в третьем, и в четвёртом классах. Эта книжка и сейчас физически существует. На её твёрдой обложке имеется большая клякса от пролитой зелёнки. Сестра обрабатывала пуповину котёнку, которого я принёс домой, и нечаянно пролила пузырёк с брильянтином. На полях книги остались нарисованные мной кораблики и пятиконечные звёзды, а на её обратной стороне сохранился коричневый полукруг от кружки с чаем, или кофе. Не подумайте, что я так обращался со всеми книжками, просто “Тень каравеллы” была особенной, я даже спал с ней. На сборнике стихотворений Агнии Барто, имеются мои совсем ранние каракули и росчерки, оставленные явно в отсутствие взрослых, во времена, когда я ещё, пожалуй, не умел как следует говорить. На одной из страниц неумело вырезана ножницами иллюстрация со щенком. Соглашусь, варварство, зато какие эмоции возникают теперь, при просмотре этих детских художеств!
Была такою страшной сказка,
что дети вышли покурить…
В. Вишневский
Верлиока
Когда мне было три года, мама купила детскую брошюру со сказкой про некое исчадье ада, по имени “Верлиoка”. Я называл его “Вилёка”. Это был первый "хоррор" в моей жизни. Вот фрагмент той сказки, который оставлю без комментариев и правки (“Интернет”).
"Жили-были дед да баба, а у них были две внучки-сиротки, такие хорошенькие да смирные, что дед с бабушкой не могли ими нарадоваться. Вот раз дед вздумал посеять горох. Посеял – вырос горох, зацвёл… Как назло деду, воробьи и напали на горох. Дед видит, что худо, и послал младшую внучку прогонять воробьев. Внучка села в поле гороха, машет хворостиной да приговаривает: “Кишь, кишь, воробьи! Не ешьте дедова гороху!” Только слышит: в лесу шумит, трещит, – идет Верлиока, ростом высокий, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в пол-аршина, на голове щетина, на одной ноге в деревянном башмаке, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. У Верлиоки была уже такая натура: завидит человека, да ещё смирного, не утерпит, чтобы бока не поломать. Не было спуску от него ни старому, ни малому, ни тихому, ни удалому. Увидел Верлиока дедову внучку – такая хорошенькая, ну как не затрогать её? Верлиока сразу убил её костылём. Дед ждал-ждал, – нет внучки, послал за нею старшую. Верлиока и ту прибрал. Дед ждет-пождёт, – и той нет! И говорит жене: “Иди-ка ты, старуха, да скорей тащи их за ухо”. Старуха с печки сползла, в углу палочку взяла, за порог перевалилась, да и домой не воротилась. Дед ждет внучек да старуху – не дождется. Встал он из-за стола, надел шубку, закурил трубку, помолился богу, да и поплелся в дорогу. Приходит к гороху, глядит: лежат его ненаглядные внучки, точно спят, только у одной кровь, как алая лента, полосой на лбу видна, а у другой на белой шейке пять синих пальцев так и оттиснулись. А старуха так изувечена, что и узнать нельзя вся в крови лежит и кости переломаны…"
Правда, весело? В советское время по этой сказке был снят мультфильм. В книжке имелись картинки. Знакомый отца, наш сосед по даче, дядя Лёня, на лицо был вылитый Верлиока. Я даже побаивался его из-за такого сходства. Однажды, когда я укладывался спать, Леонид Иванович зашёл к нам в гости. Страшный, как чёрт. Я опасливо выглядывал из-под занавески комнаты, а когда он ушёл, сбивчиво объяснял маме, кто это был, – ну, Вилёка, же! Мама не поверила. Посмеялась и строго отправила меня спать.
С четырёх лет я не ходил в садик. Уходя на работу, родители оставляли меня дома одного. Это было моё любимое время суток. Доставал бумагу, краски, карандаши, и садился за маленький столик у дивана. Мне нравилось моё творчество. Не отвлекали ни телевизор, по которому нечего было смотреть, ни компьютеры, которых ещё не существовало, ни друзья, поскольку на новом месте я не успел ими обзавестись. Завидую детям, – им почти никогда не бывает скучно. При этом кажется, что время впереди нескончаемо много. С годами всё наоборот, оно льётся впустую, как вода из открытого крана, будто ждёшь, когда оно уже перестанет течь, и всё закончится.
Помните, как скрипел карандаш в детстве? Его вкус на языке, как вы радостно принесли только что нарисованный рисунок родителям, как мама, или папа, чтобы не обидеть, попросили у вас картинку, якобы, на память, как вы снизошли до того, чтобы подарить её, сделав наивную дарственную надпись с повёрнутыми в другую сторону буквами "Е" и "Я".
Вам было жалко расставаться со своим "шедевром", но как откажешь родным? В четыре с половиной года я рисовал комиксы, наверно под впечатлением серий, увиденных в детских журналах. Про придуманного мной цыплёнка-мотоциклиста, в каске из яичной скорлупы, про роботов и рыцарей, про солдат, побеждающих фашистов. Жаль, те рисунки не сохранились.
Barbiе: Я за советские мультфильмы. Они учат добру.
Rebel: Да ничему они не учат. Это видно по взрослым, выросшим на
советских мультфильмах.
(из обсуждения на интернет–форуме)
Мультфильмы
Говоря о книгах и комиксах моего детства, стоит хотя бы вскользь упомянуть о мультфильмах и телевидении конца шестидесятых – середины семидесятых годов прошлого века. Программ было всего две,– центральная и местная, вещание велось в строго отведённые дневные часы. Ждать разнообразия не приходилось, часто повторяли одни и те же сюжеты, Мультфильмы показывали еженедельно, но длились они обычно не более 10-15 минут, как правило, шедеврами назвать их было сложно. При том, что художников в данной сфере хватало, качественную продукцию производили в основном в 50-е годы. О мультипликации компании Уолта Диснея до перестройки в нашей стране люди знали лишь понаслышке. В 70-е годы встречались, мягко говоря, странные анимационные продукты. “Голубой щенок”, “В синем море, в белой пене”, “Шкатулка с секретом”, “Загадочная планета”. Заслуженный успех музыкальных мультяшек “Бременские музыканты”, или “В порту” напрочь нивелировался низким качеством прорисовки персонажей. Хуже двухмерных тяп–ляп дешёвок, вроде “Лоскутик и облако”, были только неуклюжие кукольные мультфильмы про зайку Петю. В 80-е годы появились интересные пластилиновые технологии, но просуществовали они недолго. Мне нравятся работы Гарри Бардина, например, “Банкет”, или “Брак”, но при чём здесь дети? Это анимация для взрослых.
Мне не нравились тупые малобюджетные мульт-сериалы, вроде: "Ну, погоди!", "Трое из Простоквашино", или история про каких-то гламурных котов и собак-мушкетёров. Адресно-детскую продукцию почти не производят уже несколько десятилетий. Получается то мрачная "Шинель" по Гоголю, опять же, совсем не для детей, то потужный эрзац в чёрно–синих тонах по мотивам сказки Гaуфа. Несколько пожилых бородатых художников заперлись в студии и, видимо, забыв про то, что главными потребителями мультфильмов являются дети от 3-х до до 10-ти лет, трудятся над экранизацией “Старика и моря” по Эрнесту Хемингуэю. Зато в алчной и бездуховной Америке: "Спирит-душа прерий", "Белоснежка", “Русалочка”, "Wall-E", "Роботы", "Дом-монстр", "Душа"… Неужели американцы, "пендосы", какими их нам пытаются представить, на самом деле такие "тупы-ы-ые"?
Воспоминания о книгах, звуках, или картинках из моего детства тесно связаны с восприятием мира всеми органами чувств. Я помню запах, который со временем перестал ощущать. Не потому, что его больше нет. Это запах детства, он ушёл вместе с ним. Его уже нельзя почувствовать, как раньше, его можно только вспомнить. Запах влажных акварельных красок, или голых детских коленок, поджатых к лицу, запах полыни. Её полно вокруг, но только в детстве она бывает такой высокой и ароматной. Запах прибрежных водорослей на закате, у реки, запах мокрой дворняги, её щекотный шершавый язык у себя на виске… Взрослые не чувствуют запахов и ощущений детства, но они никуда не делись, они остались прежними. Если вспомнить. Если опуститься на колени.
Два клёна
Однажды, где-то в конце шестидесятых годов, мама сводила меня в городской театр драмы имени Пушкина на детский спектакль по сказке Евгения Шварца "Два клёна". Если кто-то не знает, это сказка про материнскую любовь, о том, как Яга заколдовала двух братьев, превратив их в два клёна, и о том, как мать спасала их, жертвуя собой.
Спектакль оставил не самые приятные воспоминания. Кстати, удовольствия от театральных постановок я не испытываю до настоящего времени просто потому, что мне не нравится театр, как вид искусства. Мы с мамой сидели на нижнем правом двухместном балконе, у самой сцены. В разгар постановки прямо перед нами выскочила злобная Яга в лохмотьях, с огромным носом, она стала громко кричать, расставив тощие ноги и когтистые руки: "Где здесь ма-а-лень-кие дети? А ну по-да-а-йте мне их!!!"
Старуха старательно высматривала мелюзгy в зале, наконец, её жуткий взгляд впился прямо в меня. Видимо, актриса была от бога, я по-настоящему испугался и спрятался за ограждением балкона, присев на корточки, схватив маму за ноги, чем очень её рассмешил. Наверно, это было и правда смешно, увидеть испуг ребёнка, впервые оказавшегося в театре в метре от сцены.
Лет через двадцать я ещё раз побывал в том театре на выступлении математического трюкача, Юрия Горного, демонстрирующего возможности человеческой памяти. Сидя в зале, я смотрел сквозь сверхчеловека на сцене и вспоминал спектакль, увиденный в четырёхлетнем возрасте, в этом самом театре на этой самой сцене.
Отрывок из спектакля "Два клёна" по сказке Е. Шварца
Василиса: А ты себя, видно, любишь?
Баба-Яга: Мало сказать люблю, – я в себе, голубке, души не чаю. Тем и сильна. Вы, людишки, любите друг дружку, а я, ненаглядная, только себя самоё. У вас тысячи забот – о друзьях да близких, о детишках своих, а я только о себе, лапушке, и беспокоюсь, никто мне не нужен.
Василиса: Освободи моих сыновей.
Баба-Яга: Смотрите, что выдумала! Оживлять их ещё! Они деревянные куда смирнее. Уж такие послушные, из дому шагу не ступят, слова не скажут дерзкого! Одного я только понять не могу: как детишки не прискучили тебе, пока маленькими были да пищали с утра до вечера без толку? Я, красавица, давно бы таких, – раз, да и за окошко!
Василиса: Вот и видно, что ты баба-яга, а не человек. Разве малые дети без толку пищат? Это они маму свою зовут, просят по-своему: “Мама, помоги!” А как поможешь им, тут они и улыбнутся. А матери только этого и надо.
Баба-Яга: А как подросли твои крикуны да стали чуть поумнее, разве не замучили они тебя своеволием, не обидели непослушанием? Ты к ним – любя, а они тебе – грубя. Я бы таких сразу из дому выгнала!
Василиса: Вот и видно, что ты баба–Яга, а не человек. Разве они нарочно грубят? Просто у них добрые слова на донышке лежат, а дурные на самом верху. Тут терпение надо иметь…
Что солдаты носят под пилотками?
Раз в неделю, по выходным, мы всей семьёй ходили в старую депoвскую баню. Она была неподалёку, на нашей улице. Я шёл впереди, с папиным китайским фонариком, светя в темноте куда угодно, только не на дорогу. Следом, вступая в попутные лужи и чертыхаясь, плелась наша семья. После бани мама заставляла меня надевать косынку под шапку, закрывая уши, которые в детстве у меня часто болели. Я очень стеснялся, но когда мама, наклонившись ко мне, сказала шёпотом, что у солдат, которые тогда выходили строем из той же бани, под пилотками "повязаны косыночки" я, поверив, согласился и больше не перечил. Мальчишки всегда тянутся к оружию и военным играм. Дети совершенно по-взрослому целятся друг в друга из своих игрушечных автоматов, нажимают на спусковой крючок, падают, изображая смерть, совершенно не понимая, что это такое. Взрослые всячески поощряют наивные мальчишеские стремления казаться "большими", умиляются, глядя на собственное чадо: "Ну, совсем солдат у меня стал!" Правда, когда дело доходит до реальных боевых действий, не все с радостью отправляют своих мальчиков в окопы.