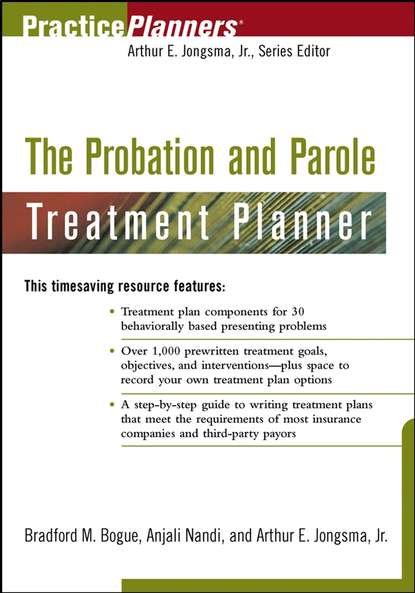Рай за обочиной (Диссоциация)

- -
- 100%
- +
Под навесом курилки девушка сняла капюшон.
В темноте Эля различила фиолетовое каре. Перед ней стояла Сойя.
– На, – сказала Эля, протягивая открытую пачку сигарет.
– Спасибо, – проговорила Сойя своим нежным голоском, двумя пальцами зацепляя и выуживая из пачки сигарету – длинную, белую, тонкую. – Это не с тобой мы вчера виделись в столовой?
– Возможно. Ты – Зоя, верно?
– Сойя, – поправила она.
– Это твоё настоящее имя? – удивилась Эля.
– Что ты имеешь в виду?
В руках у Сойи щёлкнула зажигалка, и на долю секунды её лицо озарилось золотистым, подсветились розовым волосы. Она прикурила, а затем подняла на Элю глаза. Даже в темноте чувствовался её сосредоточенный взгляд.
– Я никогда не слышала такого имени, – как бы попыталась оправдаться Эля. – Я имею в виду… у тебя так написано в паспорте?
Сойя шумно втянула ноздрями воздух, затем в темноте перекатился её наигранный смешок. В целом, она вся как будто была наигранная: и её голос, и интонации, и движения. В речи Сойи тоже была определённая доля пафоса.
– Почему, если имя написано в паспорте, то оно должно быть настоящим? В моём паспорте, к сожалению, написано то имя, которым нарекла меня моя матушка. Откуда она тогда могла знать человека, кому даёт это имя? По сути, это самое большое насилие – дать новорожденному ребёнку имя, которым его потом будут называть ругаясь, избивая, насилуя… Настоящее имя себе могу дать только я сама: потому что я знаю себя достаточно хорошо для этого. Моё настоящее имя – Сойя, несмотря на то, что бы где ни было написано. Я – Сойя.
– Прости, – смутилась Эля, выслушав её. – Ты права.
Голос Сойи звучал наигранно глубоко, интонации – артистично, но почему-то всё равно искренне в своём артистизме. Хотя бы один человек – как чувствовала Эля – для её собеседницы уже был аудиторией.
А малиновый огонёк сигареты осветил округлые пальцы Сойи, её пухлые губы. Её голос в темноте смягчился:
– Почему ты просишь прощения?
– Я задала некорректный вопрос, – пояснила Эля.
– Ничего страшного, – мягко, снисходительно возразила Сойя. – Это далеко не самый некорректный вопрос из тех, которые мне задавали. Вообще, часто приходится слышать, когда у тебя есть пограничное расстройсктво…
– Ох-х, – вздохнула Эля. – Вот это да… Извини, а ты..? как ты узнала про свой диагноз? Ты обращалась к частному врачу?
– Нет, – мотнула головой Сойя. – Когда мне было четырнадцать лет, матушка отвела меня в ПНД, а уже оттуда меня направили в больницу. Оттуда я вышла с диагнозом.
Эля с интересом посмотрела в её призрачно-бледное лицо, подчёркнутое контрастными тенями. Сойя была похожа на луну, зависшую в мутном небе.
Шелестел дождь, тарабанил каплями по навесу курилки. Асфальт походил на чёрный минерал (биотит) под плёнкой луж, в которых золотистыми дорожками отражались окна учебных корпусов. Рассекая лужи шинами, по улице проносились машины, гудели и лениво стучали трамваи.
– Получается, ты стоишь на учёте? – уточнила Эля.
Сойя тряхнула фиолетовыми волосами.
– Да.
– А были какие-то, может, проблемы при поступлении?
– Если ты о том, помешал ли мне учёт в ПНД, то – не особо, – ответила Сойя очень важным тоном. – Проблемы были только из-за расстройства, уже после поступления. Я не сразу смогла закончить первый курс, потому что пару раз попала в больницу.
– Как так? – удивилась Эля.
– Ну, первый раз, я тогда ещё жила в общежитии, накануне сессии у меня была попытка суицида, и соседка тогда вызвала «скорую». Во второй раз меня уговорила лечь… подруга. Оба раза приходилось брать академы.
Эля задумчиво посмотрела перед собой. Ей было неловко, что странная Сойя так непринуждённо делится с ней этим всем, но с другой – это было интересно. Сойя была интересна – такая наигранная, но в то же время, искренняя и непринуждённая. Это была их вторая в жизни встреча, но Эля уже столько знала о ней.
И она решила рассказать о себе, надеясь, что они с Сойей никогда больше не пересекутся – ни в столовой, ни в курилке, ни на кафедре иностранных языков:
– Я думала, что если состоишь на учёте, то будут проблемы с тем, чтобы поступить, чтобы устроиться на работу… Просто в школе мама отводила меня к какому-то врачу по совету школьного психолога, у меня что-то нашли, я не знаю, что, потому что после этого от меня прятали карту, а потом бабушка быстро остановила всё это и запретила маме вести меня в ПНД – как раз потому, что меня могли поставить на учёт. У меня бабушка такая, – вздохнула Эля. – Я до сих пор с ней живу. А мама… она пыталась мной заниматься, но кажется, что никогда не доводила, что начинала, до конца. Например, она один раз подходила к классной руководительнице, когда у меня начались проблемы в школе, а потом говорила, что ей некогда и я могу разобраться со всем сама. А я не могла, я была ребёнком… Она записывала меня к репетиторам и забывала давать деньги на занятия… Честно, мне кажется, – надломлено призналась Эля, сама удивлённая этой внезапной исповеди, – что она просто строит свой идеальный мир со своим мужем, и там нет места проблемам, но только: её главная проблема – это я.
– Понимаю, – сочувственно проговорила Сойя. – Для моей матушки я тоже была проблемой, иначе бы она не сплавила меня в больницу, и не называла бы жирной, когда я поправилась от таблеток. Но сейчас, когда она осталась в другом городе, я чувствую себя свободно.
– Везёт, – вздохнула Эля. – А откуда ты?
– Валдай. Это в Новгородской области.
– Далеко… Это там, где – колокольчики?
– Ага, – кивнула Сойя. – И исток Волги. А ещё – население четырнадцать тысяч. Честно, надеюсь, никогда больше туда не вернусь.
– Я бы тоже хотела уехать из своего города, – вздохнула Эля, отрешённо глядя на истлевшую до самого фильтра сигарету меж своими пальцами.
– Разве ты не из Москвы?
– Нет, – мотнула она головой. – Я из области.
– О… И долго тебе ехать?
– Два часа, – Эля зажала догорающую сигарету зубами. – Поэтому сейчас я должна быть на вокзале. Но я не хочу домой.
– Если хочешь, я могу договориться, и ты переночуешь у нас в коммуне, – предложила Сойя.
Эля удивлённо взглянула на неё, но отказалась.
– Нет, спасибо. Я лучше поеду домой. Пока.
Она рванула было из-под навеса, но Сойя окликнула её:
– Стой!
Эля замерла.
– Обнимемся на прощание? – спросила Сойя, раскрывая объятия.
– Что? – не поняла Эля, но уже почувствовала, как Сойя обхватила её обеими руками и прижалась так, что её волосы, на которые, как бисер, были нанизаны капельки дождя, легли на плечо Эле.
Эля застыла, положа руки на спину Сойе – на куртку, влажную от дождя. Прикосновение – эта девчонка нагло вторглась в её мир, ожила, стала настоящей.
Лаба
Эля сидела в полупустой столовой, пока остальные её одногруппники были на семинаре по биохимии. Перед ней на столе стоял пластиковый стаканчик с чаем, лежала замотанная в пакет сосиска в тесте и открытый скетчбук. Под её рукой послушный карандаш оставлял грифельные следы на шершавостях бумаги, и Эля, оградившаяся от мира тёмными прядями, словно пытаясь спрятать свой сокровенный скетчбук, увлечённо выводил линии, подтирая уголком ластика, легко наносила штрихи.
Она рисовала платья на пластичных фигурах, вдохновлённых моделями с эскизов модельеров начала прошлого века. Безликие женские фигуры в детализированных нарядах оставались за грифелем Элиного карандаша. В образах этих – отпечатки моделей Поля Пуаре, Кристиана Диора, Коко Шанель, Ива Сен-Лорана; но чаще всего в Элиных рисунках присутствовал дух театральных костюмов…
Грифель карандаша шептал по плотной шероховатой бумаге.
Какой-то звук – Эля отвлеклась от рисунка и подняла голову. Через стол от того, где расположилась она, белел седой затылок декана… «Вот чёрт! – пронеслось в голове у Эли, когда её пальцы судорожно захлопывали скетчбук. – В деканате же сейчас обед! Какая я лошара…» Её белые руки дрожали, цепкие пальцы впивались в твёрдую обложку скетчбука на пружинке, собирали со стола карандаши, пенал, сосиску в тесте… И прежде, чем встать, Эля быстро допила остывающий чай.
Тихо, тихо отодвинуть стул…
Прикрываясь волосами, прячась за столбами (я не вижу – меня не видно), Эля прошла к выходу из столовой и вынырнула вон. Из столовой она вышла, зажав в одной руке замотанную в пакет сосиску в тесте, и обошла здание по периметру, чтобы выйти на лужайку, где стояла беседка.
На газоне, усеянном солнышками маргариток, сидели собаки с жёлтыми бирками на ушах. Чёрная собака с треугольными ушами и мохнатыми боками – её Эля про себя прозвала Танк, за её неповоротливость и невозмутимость. Блинная длинношёрстная собака с чёрными пятнами на носу и ухе, которой Эля негласно дала кличку Черноух. Ещё одного пса Эля назвала так же, как Марина Цветаева назвала одного из бродячих псов в Коктебейле – Шоколад, тёмно-рыжий, почти коричневый, с короткими лапами и длинной мордой. При появлении Эли собаки зашевелились и потянули морды в её сторону, учуяв запах сосиски в тесте.
Эля остановилась, держа подмышкой скетчбук.
– О, – улыбнулась она, – друзья…
Затем Эля опустилась на корточки, вытянув вперёд руку с кусочками сосиски. Собаки осторожно потянули к ней морды, влажный нос ткнулся ей в пальцы. Раскрылась розовая собачья пасть, и Черноух стащил с Элиной ладони розовый кусок сосиски. Танк и Шоколад приблизились к Эле. Она улыбнулась и почесала Черноуха за ухом.
– Хороший мальчик, – приговаривала Эля, пока собаки доедали её сосиски в тесте, прямо с хлебом.
«Ну вот – мои друзья в универе», – не то с насмешкой, не то с грустью подумала Эля, глядя на собак.
Медленными шагами, надеясь не спугнуть евших собак, она направилась к беседке.
– О-о, привет! – удивлённо воскликнула Эля.
В беседке сидела Сойя. Как обычно – она с растрёпанными фиолетовыми волосами, помятой чёлкой; большой чёрно-коричневый свитер в катышках, сползший с плеча и обнаживший атласную с кружевом персиковую лямку. На коленях, на короткой синей клетчатой юбке, надетой на плотные чёрные колготки, Сойя держала раскрытый блокнот. На ногах у неё были жёлтые мужские ботинки, над которыми топорщились собранные гетры.
При появлении в беседке Эли она встрепенулась, подняла светлые глаза – и её мягкие округлые губы расплылись в улыбке.
– Привет, – нежным голосом отозвалась она.
– Я присяду? – спросила Эля, подходя к скамейке, а когда получила утвердительный ответ, спросила ещё: – Что делаешь? – закидывая тяжёлую сумку себе на колени.
– Пришла от врача, – ответила Сойя. – Ездила за рецептом на таблетки. Потом пойду на пары. А ты?
– А я проёбываю пару. Сейчас в столовке сидела и – представь! – увидела нашего декана!
Сойя пристально смотрела на неё, изображая всей собой внимание. Когда так смотрели, Элю смущало – и тут она на мгновение потерялась. Потом она неловко хохотнула, стыдясь самой себя, голос её дрогнул:
– Главное – это что он меня не видел!
Мягкие губы Сойи сложились в улыбку. У неё такое доброе, простое лицо – а глаза светятся каким-то опасным огоньком. Безумная!
Эля писала о том, какая милая эта девочка с эконома.
Пётр Старицкий
12:35
Ну вот видите, а вы говорили, у вас нет друзей в универе
Эля оторвала глаза от телефона и уставилась в пустоту, представляя себе образ Сойи и пытаясь сопоставить это с понятие «друг». Может ли так выглядеть её подруга? Знакомая – вполне. Эля любит (коллекционировать) милых и странных знакомых.
Эллина Калинина
12:38
У меня нет друзей
Холодный порывистый ветер задувал в беседку и трепал фиолетовые волосы. Сойя молчала. Эля тоже молчала, разглядывая её. Пухлые губы, нос картошкой, исчезающие на осеннем солнце веснушки и огромные глаза. «У меня нет друзей», – повторила про себя Эля. Красивая и милая Сойя выглядела слишком далёкой, слишком красивой и слишком милой для того, чтобы быть её подругой.
– Я вот думаю, – своим поставленным нежным голоском щебетала Сойя, – может быть, сейчас я зря приехала и мне стоит вернуться домой?.. К тому же, сегодня мы готовимся ко квартирнику…
– Квартирник? – переспросила Эля. – Где?
– В коммуне. Хочешь прийти?
– А когда?
– В пятницу. А так – можешь хоть сейчас со мной. Сегодня у нас фотовыставка!
Эля задумалась.
– Что за выставка?
– Про наш район.
Эля почесала подбородок, задумчиво глядя перед собой. С одной стороны, ей очень хотелось сейчас сорваться и поехать с Сойей к ней в непонятную коммуну на непонятную фотовыставку, но с другой стороны, на улице было промозгло и сыро, пальто напиталось влагой. Ещё Элю клонило в сон и она думала о тёплой аудитории и о том, как когда следующая пара кончится, она поедет домой.
На последней паре, в конце, когда за вытянутыми окнами корпуса светилось лиловое небо, была защита лабораторных работ. Студенты толпились у стола преподавательницы, толкались, иногда галдели – и тогда грузная женщина с химзавивкой поднимала на них строгие чёрные глаза и сердито цыкала, а затем обращалась к студенту, сидевшему сбоку от её стола:
– Продолжайте.
Эля с тетрадкой в руках стояла в конце очереди. Каштановые пряди падали, прикрывая её лицо, как обычно. Наблюдая за тем, как строгая преподавательница сосредоточенно смотрит в тетради с лабораторными, проверяет расчёты, а затем задаёт вопросы, Эля дрожала и надеялась, что до неё очередь сегодня просто-напросто не дойдёт. Одногруппниик на стуле сбоку от преподавательского стола запинались, нервничали, сыпались. Как всегда, Эля чувствовала, что не готова.
Она не заметила, как её обступили двое одногруппников. Оба они, как их называли, «биба и боба», были спортсменами и защищали честь вуза в составе университетской сборной, за что преподаватели снисходительно относились к тому, что по натуре своей, эти двое были как пара сибирских валенок. К тому же, каждый из них, в силу сочетания высокой атлетичности и низких умственных способностей, а также довольно смазливых лиц (ну – готовые типажи подростковых сериалов), обладал удивительной наглостью. Так, Эля ощутила, что один коснулся плечом её плеча, и услышала шёпот над ухом:
– Переспим?
Она отшатнулась, налетев спиной на плечо второго, и уставилась исподлобья волчьими глазами. Не понимая, шутка это или нет, она покраснела от возмущения.
– Нет! – прошипела она. – Пошёл нахуй.
– Э-эля! – послышался с другой стороны голос второго. – Ну почему в тебе так много негатива?
– От твоего существования, – ответила Эля, оборачиваясь на него.
Парни загоготали. Их прервал голос преподавательницы:
– Тихо там! – а затем, спустя паузу, женщина подозвала к себе Элю: – А, Калинина, Эллина! Давно вас здесь не видела. Может, у вас будет, что мне рассказать?
Судорожно прижимая тетрадь к груди, как на заклание, Эля прошла к столу.
Сначала преподавательница окинула взглядом её записи.
– Так, Эллина, – начала она, – и что же такое – КОЕ?
Эля молчала, потому что не расслышала вопрос, но постеснялась переспросить. Кто-то из одногруппников шепнул подсказку, но преподавательница стукнула ладонью по столу.
– Не подсказываем! – а затем повторила свой вопрос уже почти по слогам. – Что такое КОЕ? – голос её был более ровным и спокойным.
От волнения Эля была готова расплакаться, к её глазам подступили слёзы – поэтому она не смотрела на преподавательницу, отвечая:
– Я не слышала, – говорила она тихо. – Это колониеобразующая единица.
– Если вы не расслышали вопрос – попросите повторить. Я не кусаюсь. И что же показывает КОЕ?
– Что показывает? – переспросила Эля, готовая вот-вот расплакаться от ощущения, что преподавательница считает её непролазной дуррой и потому задаёт такие лёгкие вопросы. – Количество жизнеспособных клеток… бактерий… клеток…
– В чём?
– В единице объёма.
– Правильно. Ещё в чём?
На этот вопрос ответить Эля уже не смогла, потому что слёзы выступили из её глаз, а предательский голос пропал. Она заплакала.
– Не помню, – глухо, с трудом выговорила она.
Преподавательница вздохнула, быстро что-то начеркала в её тетрадке и как будто с какой-то брезгливостью отдала Эле.
– А сырость разводить тут не надо. Идите. Следующий!
Пряча мокрое лицо за волосами, Эля продиралась сквозь одногруппников. Кто-то спросил её:
– Ну, что у тебя?
Она боязливо раскрыла тетрадь и обомлела. За лабораторную стояла оценка «хорошо».
Вокзал II
– У вас глаза грустные, – произнесла Эля.
Пётр вздохнул. Его большие глаза повернулись в сторону девушки – и правда, грустные, даже в темноте видно. Эля прождала его у вокзала, пропустила три электрички. А он явился, как ей показалось, встревоженный.
– А у вас – руки холодные, – проговорил Пётр, сжимая её ладони в своих, тёплых и шершавых.
Из потресканных губ его вырывался пар.
– Мне часто говорят, что у меня грустные глаза, – выдержав паузу, продолжил он.
В темноте над гудящим вокзалом уютно желтели окна кирпичной водонапорной башни. Одноголосый вокзал объявлял отправление и прибытие поездов.
– Простите, что заставил ждать. Мне пришлось задержаться у… товарища, – продолжил он, виновато глядя на Элю. – Вы не сильно замёрзли? Может, пойдём посидим в кофейне?
Третьяковка
Вырвалась из дома.
Мама
10:45
Ты сама жалуешься, что мы мало проводим времени вместе, но теперь сама же пренебрегаешь семьёй ради какого-то хрена с горы!
Но Эля смахнула это сообщение с главного экрана.
Они договорились пойти в Третьяковку.
В ту субботу к маленькому домику бывшего фабричного посёлка на чёрной «хонде» приехала Людмила – Элина мать: высокая женщина за сорок с мелко вьющимися волосами, очень похожая на Элю лицом. С ней приехал и Максим, но не стал заходить в дом, а остался ждать в машине. Максим не нравился Лидии Петровне (что было взаимным), так что его Лидия поносила ещё сильнее, чем свою вторую дочь.
Эля созерцала свою семью, и ей категорически не нравилось, что происходило вокруг. Эти люди, по какому-то недоразумению оказавшиеся роднёй друг другу, на самом деле были как будто чужими: между ними всегда ощущался холод, отчуждённость, а порою и – вражда. И среди этого, довольно большого, числа людей, где каждый ежедневно преодолевал себя, чтобы оставаться, хотя бы условно, вместе, Эля находилась практически с самого рождения.
Матриархом её семьи, как в каком-нибудь «Сто лет одиночества», была бабушка, но в отличие от мудрой Урсулы, Лидия Петровна имела весьма склочный нрав и обладала авторитарным характером. Всё должно было быть по-её. Для Эли всегда было загадкой, как эта женщина сошлась с её мягким дедом и как Леонид Владимирович её терпит столько (сорок с лишним) лет, а ещё – как они родили и воспитали двух детей. Старшая дочь, Элина мать Людмила, несмотря на то, что доросла до высокой должности на своей работе, в личной жизни оставалась довольно инфантильной авантюристкой. Эля была её единственным ребёнком, ошибкой молодости, из-за которой ей пришлось сойтись с Константином. С ним они жили пятнадцать лет в, каком-то смысле, открытом браке, и поскольку каждый из них был больше занят личной жизнью и карьерой, Элей, в основном, занимались бабушки. Бабушку по отцу звали Эмилия Эдуардовна, и они с Лидией петровной невзлюбили друг друга с первого взгляда. Единственное, в чём они сходились – так это в любви влезать в отношения своих детей. Родителей, как правило, Эля видела по выходным и праздникам, и воспринимала их, скорее, как просто друзей.
Когда Эля училась в девятом классе, её отец умер. До сих пор ей никто не сказал, от чего. А Людмила через какое-то время встретила Максима, который был моложе её более, чем на десять лет.
Была у Людмилы и младшая сестра. В кухонных беседах за бокалом вина Людмила признавалась дочери, почему к сёстрам в семье было разное отношение:
– Женька незапланированная, поздний ребёнок. Мама всю беременность ходила и говорила: «Не хочу рожать. Пусть бы умерла. Пусть бы урод родился – я б тогда отказалась с чистой совестью».
У Людмилы с Евгенией тоже была довольно большая разница в возрасте – целых семнадцать лет. Из-за этой пропасти во времени они никогда не были близки.
Со своей тётей в осознанном возрасте Эля почти никогда не общалась. В семейном фотоальбоме была только одна фотография, на которой они были запечатлены вместе: пятилетняя Женя с задумчивым, слишком взрослым выражением лица, и годовалая Эля. Долгое время Эля считала ей своей сестрой. Между ними было всё так же мало общего.
Однажды в четвёртом классе Эля вернулась домой после уроков и обнаружила, что никакой Жени как будто никогда не существовало: в квартире не осталось ни одной её вещи. На вопрос, а где, собственно, Женя, Лидия Петровна только пожала плечами.
Позже в семью начали проникать слухи о том, что Женька…
Так, в то субботнее утро заехала Людмила. Высокая крупная женщина с чёрными локонами и густыми нарощенными ресницами.
– Явилась, – вздохнула Лидия петровна, запахивая байковый халат поверх заношенной ночной рубашки, и крикнула в комнаты: – Эллина! Мать приехала!
Эля сидела в своей комнате у зеркала, за своим рабочим столом, покрытым разноцветной мерцающей пыльцой косметики. Отодвинув учебники, она разложила на столе косметику: баночки и тюбики с золотистыми крышками – розовое, жёлтое, синее, белое, чёрное, блестящее… Эля хотела быть похожей на тех девушек из интернета – с ровной бледной кожей, необычными макияжами и идеально ровными уверенными стрелками – но у неё предательски дрожали руки и всё получалось какое-то невнятное, кривое и неидеальное. Руку не набила…
Неосторожное движение – и с ресниц осыпалась тушь, отпечатываясь чёрным следом под нижним веком. На глазах у Эли навернулись слёзы. «Какая же я безрукая», – мысленно ругала она себя, борясь с желанием отшвырнуть все эти тюбики и баночки прочь, смыть всё с лица и никогда не показываться на свет божий: ведь мало того, что она безрукая, так ещё и лицом не вышла, раз на нём не выходит такого макияжа, как на всех тех кукольных девочках в интернете.
И тут:
– Мать приехала!..
Эля чертыхалась, с силой сжав кисти в кулаке.
Приезд Людмилы в выходной означал только одно: сейчас Элю будут звать, уговаривать, заставлять ехать куда-то с матерью и Максимом, ведь это важно – проводить время с семьёй.
– О, ты уже собираешься? – обрадовалась Людмила, увидев Элю перед зеркалом.
– Да, – ответила она. – Гулять.
Людмила села на край кровати возле стола, за которым сидела Эля, и матрас продавился ещё сильнее. Людмила сложила руки с длинными пёстрыми ногтями на коленях. У неё были такие массивные бёдра, что обтягивающие их светлые брюки чуть ли не трещали по швам.
Людмила склонила голову набок и, искоса взглянув на дочь, жалобно спросила:
– А с нами не поедешь?
– Куда?
– В Абрамцево. Мы с Максимом едем на машине.
– Нет.
Графичные брови Людмилы поползли к переносице, надломились и проявили морщинку-клин.
– Почему? Мы хотим провести с тобой время. Должны же мы когда-то видеться?
– Тогда предупреждайте заранее, – вздохнула Эля. – Я уже договорилась на сегодня… У меня же тоже есть какие-то планы.
– И какие у тебя планы? Я же знаю, что ты всё время сидишь дома! Как можно быть такой молодой и такой неповоротливой?
– Я еду гулять в Москву, – повторила Эля. – Я уже договорилась.
– С кем?
– С друзьями.
– И кто твои друзья? Что вы будете делать? Мать предлагает тебе культурно провести время – и ты выберешь своих «друзей»?
– Мам, – простонала Эля, – я договорилась, ты понимаешь?
– Я как-то на досуге пролистнула список твоих друзей, – не унималась мать, – и это одни фрики. Только Тая нормальная. Я очень надеюсь, что ты едешь с ней.
– Ну, спасибо! – вскипела Эля, повышая голос. – Сначала ты говоришь, что я ни с кем не общаюсь, но когда я пытаюсь с кем-то общаться, ты осуждаешь мой выбор!
– Что ты кричишь? Не повышай на меня голос! Я тоже могу! Я очень разочарована, что моя дочь совершенно не умеет выбирать себе окружение, но ещё и променяет свою родную мать на этот сброд. Ты хочешь кончить как Женя?
– Женя всё ещё жива, – возразила Эля.
– Не для нашей семьи.
Запись в дневнике
Жизнь как будто проходит за стеклом.
Вот: я как будто еду в электричке, за окном проносятся платформы, люди на них, выхваченные оазисами света, а что за станции – непонятно; и в электричках их названия объявляют так глухо, невнятно, что непонятно – когда моя станция или я её уже проехала?
Третьяковка II
Вмешался дед.
– Что расшумелись?
– Вот видишь, – обратилась мать к Эле, – деда довела, – но сама как будто не верила в свои слова, а говорила заученную фразу.