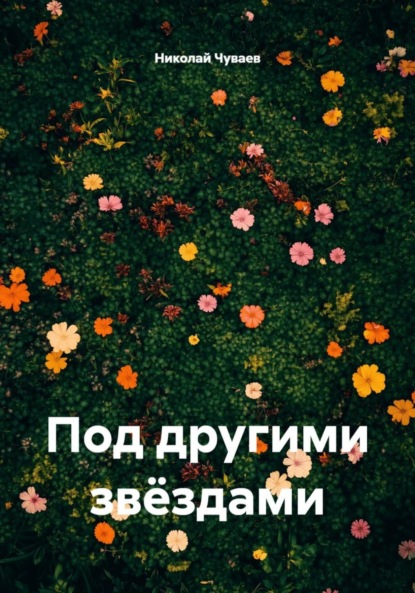- -
- 100%
- +
«Мой отец, Альдус Грон, был родом из самого центра страны, что прятался в седых облаках Энгвенских гор. Семья его жила небогато, но и не бедствовала, и главным их капиталом были честность и упорство. В гимназии он грыз гранит наук так, что от его прилежания звенели в воздухе сами молекулы знаний. Его выпускной аттестат, который я как-то держал в руках, был пропуском в другую жизнь, выданным за беспримерную доблесть на поле брани с логарифмами и древними языками. Этот пропуск открыл ему двери университета, а затем привёл в статистическое управление в Аурелии – огромном городе, чьи шпили, я представлял, пронзали небо, как иглы, на которые нанизаны тучи. И именно там, среди кип цифр и отчетов, его и настигла Великая депрессия – чудовище с невидимым лицом, пожиравшее сначала деньги, а потом и души.»
Я отложил листок и на мгновение закрыл глаза, давая улечься волне странного, почти мистического узнавания. Этот чужой мир, лежавший где-то далеко к югу от Тёплой Сибири, был до жути знакомым. Сквозь сухие строчки воспоминаний проступали очертания мира-двойника, мира-отражения в треснувшем зеркале. Здесь тоже считали годы от Рождества Христова. Здесь тоже были свои титаны Возрождения, свои фанатики Реформации, свои мечтатели Просвещения, свои дымные трубы промышленной революции. Даже призраки левых и правых социалистов, бьющиеся за души рабочих, и те были теми же самыми – только под другими именами. Вся история, казалось, шла параллельным курсом, пока не наткнулась на невидимый риф и не дала течь. И теперь обломки её – войны, депрессии, крушения надежд – выносило сюда, на страницы этого дневника, написанного под сводами того, что племя Сынов Степей звало Каменными садами.
«Но там, где одни видели крах, другие, с более гибкой совестью, разглядели золотые жилы. Отец рассказывал, как его коллеги, эти виртуозы отчётности, соткали из служебных положений и казённых бланков тёмную, запутанную паутину. Суммы, уплывавшие из имперской казны, достигали баснословного миллиона крон. А когда паутину вскрыли, все стрекозы-подельники дружно указали на одного-единственного кузнечика – моего отца. Его честность оказалась самой удобной мишенью. Ему грозила решётка, холодная и неумолимая, как закон.»
Я представил этого молодого, идеалистичного экономиста, Альдуса Грона, с его безупречными принципами и верой в цифры. И представил, как будто не ему, а мне задают следующий вопрос.
«– Но зачем тебе тюрьма? – слышался ему сладкий, лицемерный шёпот вчерашних собутыльников. – Поезжай-ка лучше в Порт-Сандер! Воля, солнце, море. Заработаешь – и заведёшь себе целый гарем… из местных блондинок. Мы тебе ещё позавидуем!
И отец, сломленный и подавленный, подписал бумагу – эту странную отставку с признанием вины и клятвой никогда не возвращаться в Метрополию. Он сел на корабль и отплыл на край света, на остров Олденир, затерянный в южных морях. Там, в аппарате провинциальной администрации, как грибы после дождя, росли «удачные проекты», сулившие лёгкие деньги. Но мой отец, словно заклинание, твердил сам себе свои университетские заповеди и жил лишь на жалование – те самые пятьдесят крон, что аккуратно перечислялись ему каждый месяц. Их хватало на маленькую квартиру с видом на пыльную площадь, на простую еду, на скромный костюм и даже на призрачную надежду, отложенную в старую шкатулку.
И вот однажды, в душный пятничный вечер, его старший коллега, человек с лицом постаревшего сатира, хлопнул его по плечу своей мясистой ладонью.
– Да брось ты корчить из себя святого! – просипел он, и от него пахло дешёвым ромом и цинизмом. – Наша работа – это бег по кругу, который никуда не ведёт. Её всё равно не переделать. Пошли, я покажу тебе город, который тебе и не снился…»
– Это же чистой воды художественный вымысел, – пожал плечами Ратибор, пришедший помочь мне, откладывая распечатку. Его вердикт прозвучал так же гладко и безапелляционно, как звон монеты на столешнице. – Фэнтези, приправленное альтернативной историей. Ну посуди сам, двадцатый век на дворе – и вдруг классическое рабовладение? Нестыковочка!
Но для меня голос Умара, звучавший со страниц, был куда реальнее скепсиса моего приятеля. Он вёл меня по следам своего отца с неумолимостью судьбы.
«Тот старший коллега, пухлый и благостный, словно кот, насытившийся чужими сметанами, усадил отца в потрёпанное такси и повёз показывать ему его новую родину.
– Местные белобрысые аборигены, – снисходительно пояснял он, – зовут этот город Суранам. Да и весь остров для них не Олденир, а Аланар. А нас, энгвеонов, они величают «бронзолицыми». Их священный металл – брона. Это помогло нашим предкам их когда-то обхитрить и подчинить. Ловко придумано, а?
Экипаж катился по убогим, пыльным улочкам, застроенным лачугами из ржавого железа и подгнившего дерева.
– Здесь обитают вонючие сандеры, – флегматично заметил коллега. – Цивилизованному энгвеону тут делать нечего, если он, конечно, дорожит своей шкурой. Даже полиция предпочитает сюда не совать свой нос. А вот здесь, – за окном замелькали домики чуть опрятнее, с жалкими клочками зелени у фасадов, – селятся метисы. Публика уже чуть почище, поумнее… Сказывается капля нашей, энгвеонской крови.
Ненадолго машина вырвалась на широкую, залитую солнцем главную площадь Порт-Сандера, промчалась мимо монументального дворца губернатора и не менее величественного здания Публичной библиотеки, чьи строгие колонны казались воплощённым знанием и порядком. Но вот такси снова нырнуло в лабиринт портовых кварталов, где воздух густел, пропитанный запахами солёной воды, гниющих фруктов и чего-то едкого, чужого.
Коллега, кряхтя, расплатился с таксистом-метисом и вывалился на мостовую, смахнув с лацкана пиджака несуществующую пыль:
– Вот. Настоятельно рекомендую сие заведение. «Малышки мадам Клюко», – он многозначительно ткнул пухлым пальцем в сторону двухэтажного дома, – Отменное сочетание цены и… качества услуг. Ну, или можешь просто прогуляться по этим улочкам. До наступления темноты здесь ещё относительно безопасно.
Отец мой, человек кабинетный, воспитанный на классических романах и строгих моральных принципах, не испытывал ни малейшей тяги к храмам порока. Кивнув на прощание, он просто пошёл, куда глядели глаза, вдоль вереницы кабаков, из которых доносились хриплые песни, и домов с полуодетыми женщинами в распахнутых окнах.
И вдруг его шаги замерли. Взгляд, скользивший по вывескам с похабными названиями, наткнулся на одну, что резанула сознание, как удар хлыста. Слова были начисто лишены крикливости, они были выведены солидным, даже строгим шрифтом, отчего становились лишь страшнее.
«Невольничий рынок».
Он стоял и смотрел на эти чёрные, бездушные буквы, в то время как мир вокруг, шумный и порочный, вдруг утратил для него все краски и звуки. Всё, что он знал об этом месте, все намёки, все циничные советы – всё это собралось в одну точку, в эту вывеску, что висела над его новой жизнью, как приговор. И в этот миг он понял, что очутился не просто на краю Империи. Он очутился на её дне.
Не знаю, каким ветром затолкнуло его под ту зловещую вывеску. Не любопытство – отвращение ворочалось в нём комом. Может, желание убедиться, что и этот кошмар – часть той самой «новой жизни», на которую он обменял свою честь? Он шагнул в полумрак, пахнущий потом, пылью и чем-то сладковато-приторным.
– Мы уже закрываемся, – раздался ленивый, хриплый голос. Из-за конторки поднялся верзила с лицом, будто вырубленным топором из старого дуба. Он смотрел на отца скучающим, почти сонным взглядом хищника, сытого до отвала. – Конец недели… А потому готовы со скидкой предложить именно то, что тебе нужно! Заходи, – это прозвучало не как приглашение, а скорее как приказ. И отец, сам не понимая почему, подчинился, переступив порог.
В тусклом свете газового рожка он увидел её. Девушку, сидевшую в скромном платье на голой деревянной скамье. Ей было лет пятнадцать-семнадцать, не больше. И главное, что бросилось в глаза – её волосы. Длинные, прямые, они ниспадали тяжёлым, белоснежным водопадом, сияя в полутьме неестественным, призрачным светом. Она сидела, поджав колени, и казалась не живым существом, а изваянием из мрамора.
– Встань! – рявкнул на неё верзила, и его голос, как удар бича, разрезал затхлую тишину. – Не видишь, что ли, смуглого господина?
Девушка вздрогнула и вскочила, точно её ударили током. На мгновение её глаза, синие-синие, как лёд в горном озере, широко распахнулись, и в них мелькнул бездонный, животный ужас.
– Повернись, – снова приказал работорговец. Когда она медленно, словно автомат, повернулась, он жестом, полным гадливого восхищения, обвёл её стройную, почти хрупкую фигуру. – Видишь? Это же статуэтка! Жаль, деньги нужны, а так бы себе оставил. Сто двадцать, – отрубил он, словно называл цену за кусок мяса.
– Почему так дорого? – выдавил отец, и его собственный голос показался ему чужим.
Верзила с театральным вздохом открыл ящик стола, достал свежий лист с печатью и ткнул им перед самым носом отца.
– Читай. Заключение врача. Абсолютно невинна. Товар высшей пробы, которым никто и никогда не пользовался. Ты можешь стать первым!
В груди у отца закипела такая ярость, что в висках застучало. Ему хотелось схватить эту тварь за глотку, разнести вдребезги эту позорную лавку. Но он стоял, парализованный холодным, трезвым расчётом. Что он может? Один, чужой, без связей и состояния? Его порыв ничего не изменит. А оставить её здесь… мысль об этом была столь же невыносима.
– Сто, – вдруг произнёс он, и сам ужаснулся этому торгу, в который ввязался.
– Это несерьёзно. Сто пятнадцать.
– Сто пять, – почувствовал он, как почва уходит из-под ног, как сам становится соучастником этого ада.
– Послушай, – продавец внезапно перешёл на панибратский, жалобный тон, разыгрывая спектакль. – У меня Семья. Дети. Мне надо их кормить. Да я и сам её за девяносто купил на плантации. Готовить умеет. И шить… Сто десять. Моя последняя цена.
– Чеком, – механически добавил отец, понимая, что в карманах у него лишь жалкие гроши. Он покупал её не наличными, а будущим, которое только что подписал.
– Это грабёж. Ну, ладно, договорились, – верзила развёл руками, изображая убыток, но в его глазах плескалось удовлетворение.
Когда они вышли на улицу, и он усаживал её в такси, в голове стоял оглушительный гул. Он купил человека. Он стал частью этой машины. Он смотрел на её белые, как лён, волосы, на тонкую шею, и чувствовал себя не спасителем, а очередным хозяином, просто более вежливым.
– Как тебя… хотя бы зовут? – тихо спросил он, захлопывая дверцу.
И он понял, что этот вопрос не имеет никакого значения. Сделка совершилась. И часть его души навсегда осталась там, в той лавке, под вывеской «Невольничий рынок». Он приобрёл не служанку, а тяжёлое, колючее бремя собственного молчаливого согласия. Девушка молчала, глядя в запотевшее стекло, за которым плыли чужие огни засыпавшего города. Её лицо было неподвижной маской, но в синих, озерно-ледяных глазах стояла такая бездна отчаяния, что он поёжился.
– Аэлин, – прошептала она наконец, и имя прозвучало как эхо из другого, чистого мира, мира высоких снежных вершин и звонких ручьев, который она, возможно, помнила в снах.
Знаете, я отца даже не стану осуждать. В том аду, куда его забросила судьба, среди циничных и отпетых дельцов, найти себе жену-энгвеонку было невозможно. Они бы не приняли его, бедного чиновника, а по документам – бывшего преступника, пусть и в действительности невиновного. А покидать остров ему было запрещено. Он оказался в ловушке.
Любил ли он её? Да. С того самого мгновения, когда увидел её ледяные глаза, полые страха, и понял, что не может уйти, оставив её в этой клетке. А она? А куда ей было деваться? Её мир сузился до стен его скромной квартирки и его смуглого лица, склонённого над вечерними газетами.
– Аэлин, я тебя не держу. Честное слово. Ты можешь уйти, – не раз, сжимая от бессилия кулаки, говорил он ей. – Но я тогда ничем не смогу помочь тебе на этом проклятом острове. При всём моём желании.
И она не уходила. Через полтора года у Альдуса Грона и беловолосой Аэлин Донтар родился сын. Тот, кто сейчас и пишет эти строки.
– Его надо учить, – с тревогой в голосе повторял отец, глядя, как я подрастаю. И тут вставала стена. Расизм. Жёсткий, системный, пронизывающий всё, как ржавчина. То, что отец-энгвеон «содержит» рабыню, наши кареглазые соседи принимали с понимающими, снисходительными ухмылками. Грешок, бывает. Но их дети… их дети отказывались со мной играть. Отталкивали от общей песочницы с криком: «Куда прёшь, белобрысый?!». Школ для таких, как я, «полукровок», тогда не существовало. Будущее моё виделось отцу мрачным тупиком.
Но однажды, когда мне едва исполнилось семь, отец вбежал в дом, размахивая свежей газетой. Его глаза, обычно усталые, горели.
– Кадетский корпус! – выдохнул он, протягивая газету маме. – Объявление. Набирают детей-метисов. – Он посмотрел на неё, и в его взгляде была не только надежда, но и мольба о прощении за тот выбор, который он был вынужден сделать. – Это шанс, Аэлин. Единственный шанс на лучшее будущее для нашего мальчика.
Они стояли друг напротив друга, два изгоя, связанные странной, трагической связью, и в тишине между ними висела вся тяжесть их общей судьбы. И в этой тишине рождалось решение, которое навсегда изменит мою жизнь.
Разговор в приёмной комиссии был недолог и жесток, как удар топора.
– Сколько подтянешься? – сипло спросил обрюзгший офицер в форме с подполковничьими погонами, лениво ткнув пальцем в сторону турника.
Вместо ответа я, не говоря ни слова, вскарабкался по длинной вертикальной трубе до самой перекладины и повис, чувствуя под пальцами шершавый холод металла. Потом начал поднимать себя рывками, вкладывая в каждое движение всю злость и обиду, копившиеся годами.
– Десять, одиннадцать… – лениво считал подполковник, и в его голосе сквозала скука. Но счёт продолжался. – …Пятнадцать… шестнадцать… Довольно! – вдруг рявкнул он, когда я уже чувствовал, как горят мышцы. – Хватит! Я устал считать!
Я спрыгнул на пол, едва переводя дыхание, и поспешил занять место. Судьба не любит, когда её испытывают.
– Наши-то и пять раз дёрнуться не могут, – услышал я шёпот другого офицера, обращённый к третьему, молчаливому и внимательному. – Ну, а таблицу умножения знаешь? Отвечай быстро! Дважды шесть!
– Двенадцать! – выпалил я, едва он договорил.
И вот – последнее испытание. Напротив меня стоял темноволосый мальчишка, почти не отличимый от чистокровного энгвеона. Лишь чуть более широкие скулы и разрез глаз выдавали в нём полукровку, как и во мне. Позже я узнаю, что он был энгвеоном на три четверти, но для комиссии это не имело значения – всё равно чужак.
– Вам надо подраться, – голос подполковника прозвучал холодно и бесстрастно. – Кто победит – к тому и вопросов больше нет. Тот и будет принят. До первой крови. На счёт раз.
И началась битва не просто за место в корпусе, а за наше будущее. Мы сцепились, как два щенка, загнанных в один угол. В ход пошло всё: кулаки, подсечки, захваты. Мы не знали друг друга, но ненавидели в этот миг искренне – как олицетворение всех преград, что жизнь поставила на нашем пути. Через пару минут наши лица украшали багровые пятна, а из носов струились алые дорожки, пачкавшие казённый пол.
– Достаточно! – раздалась наконец команда. – Оба приняты!
Мы отшатнулись друг от друга, тяжело дыша, с трудом понимая, что кошмар закончился.
– Лорик, – хрипло сказал темноволосый мальчишка, протягивая мне руку. В его взгляде уже не было злобы, лишь уважение и усталость.
– Умар, – ответил я, пожимая его ладонь. И понял, что это был последний бой, где мы стояли по разные стороны баррикады. Впереди нас ждала общая судьба.
Итак, начались десять лет казармы. Да, именно так. Пока бронзолицые отпрыски островной элиты жили в уютных двухместных комнатках, мы, все двадцать четыре кадета экспериментального набора, дневали и ночевали в одной огромной, продуваемой всеми ветрами зале. Наши койки стояли впритык друг к другу, а личным пространством был лишь узкий тюфяк и табуретка.
Жизнь наша была подчинена строгому ритму: подъем, строевая, занятия, отбой. Но самым тяжелым был не распорядок, а тихий, ежедневный фронт, который тянулся по другую сторону нашего коридора. Проходя мимо их комнат, мы постоянно слышали шипящие, как змеи, насмешки:
– Смотри-ка, белобрысая гиена прошагала!
Но мы быстро научились не глотать яд, а выплевывать его обратно. Лорик, наш главный заводила, отточил это до искусства.
– Говоришь, «белобрысый»? – он поворачивался к обидчику, и его голос звучал ледяной вежливостью. – Хочешь доказать, что ты лучше? Прошу, завтра на боевых искусствах. Один на один. Судья – майор Хаггис. А что, в бойцовском духу не хватает? Сразу на попятную?
Однажды такая перепалка затянулась, и из-за угла возникла высокая, сухая тень капитана Блэкстейла.
– Кадет Донтар! – его голос, холодный и резкий, как удар сабли, назвал меня по фамилии матери – той, под которой я значился в списках корпуса. – Немедленно прекратите! Хотите подраться?
Я щелкнул каблуками, вытянувшись в струнку, и отрапортовал, глядя в пространство поверх его плеча:
– Никак нет, господин капитан! То есть, так точно, господин капитан! Желаю иметь честь подраться с господином кадетом Вэйнстоком один на один в ходе занятия по боевым искусствам!
– Это исключено! – отрезал капитан, и в его глазах мелькнуло знакомое раздражение. – Вы обучаетесь по разным программам!
И всем было понятно, почему программы были разными. Детей энгвеонов брали… всех, кого родители могли устроить в этот престижный корпус. Нас же, «полукровок», отбирали с пристрастием, как отбирают алмазы из породы – только самых твердых и самых ярких. И мы знали это. Мы были парией, но парией, собранной по конкурсу. И эта мысль грела нас долгими вечерами, становясь нашим тайным оружием.
Мы и правда были лучшими. Позже, на выпуске, наш эксперимент закончится девятью красными дипломами из двадцати четырех. Но тогда, в гуще казарменных будней, мы просто знали – наш единственный шанс выжить и доказать что-то этому миру был в том, чтобы быть лучше их. Во всём. Всегда.
Возможно, секрет был не в силе наших мускулов, а в силе чего-то иного, что горело внутри нас – того, чего у них не было. Или, может, именно потому, что мы побеждали их в вопросах чести и морали, нам удавалось быть сильнее и в науках, и в строю.
Ох, даже не знаю, кому выпадет читать эти строки и какие чувства они вызовут. Но это – правда, и я обязан её записать.
Существовал издавна у кадетов Порт-Сандера дикий, варварский обычай. Они называли его «Лотерея». Проводилась она в канун последних осенних каникул. У энгвеонов это выглядело так: компания кадетов из одного отделения скидывалась на крупную сумму. Старший кадет на эти деньги покупал на невольничьем рынке нескольких юных рабынь. По чудовищным правилам, одна из них обязательно должна была быть невинна – а потому стоила целое состояние. Какая именно – не сообщалось. Она-то и становилась «главным призом», переходя в полную собственность того, кому выпадет жребий. Остальных же утром, опозоренных и отчаявшихся, перепродавали – чтобы хоть как-то окупить мерзость этого предприятия.
Естественно, мнение самих девушек, этих живых «призов», никто не спрашивал. Их воля, их души – всё это в расчёт не принималось.
Весть об этой «лотерее» долетела и до нас, и в нашей общей спартанской зале повисла тяжёлая, гнетущая тишина. Мы чувствовали на себе взгляд всей этой гнилой системы. Ждали нашего хода.
– Что делать будем, господа кадеты? – тихо, но чётко спросил наш командир, Дориан. Его спокойный голос был похож на стальной клинок, обнажённый в полумраке.
– Как минимум, два варианта, – первым нарушил молчание самый рациональный из нас, Лорик. – Не устраивать никакую лотерею. У нас и денег-то толком нет. Тем более – на невинных невольниц.
– Ха, и они засчитают нам «техническое поражение»! – тут же парировал Изар, юноша, чьи кулаки были размером с пудовые гири. – Не стоит доставлять им, – он мотнул головой в сторону коридора, за которым обитали наши «благородные» однокашники, – такого удовольствия.
– Ты предлагаешь купить рабынь… и стать такими же, как они? – без тени осуждения, но с убийственной прямотой спросил Дориан. Его взгляд скользнул по нашим лицам.
Тишина вновь стала густой и плотной, как смола. Мы стояли на краю пропасти. С одной стороны – насмешки и позор «технического поражения». С другой – нравственное падение, уподобление тем, кого мы презирали.
И вдруг, сквозь эту гнетущую тишь, прозвучал тихий, но твёрдый голос. В нём не было бравады, только чистая, кристальная ясность:
– А давайте… просто отпустим их на свободу?
Предложение повисло в воздухе, такое же немыслимое и дерзкое, как попытка зажечь свечу в ураган. Мы не будем играть в их игры. Мы напишем свои правила. И первым правилом будет – человек не может быть призом.
Так мы и поступили. Это была лотерея не для нас – а для них, для тех несчастных душ, что в тот вечер обрели не хозяев, а странных, неумелых спасителей в кадетских мундирах. По крайней мере, мы в этом не сомневались.
Мы сняли для них номера в убогой гостинице на самой окраине, где пахло плесенью и отчаянием, заказали скромный ужин из ближайшей харчевни и, выстроившись перед ними, с торжественными и взволнованными лицами, объявили наш вердикт, наш великий дар:
– Дамы! С этого мгновения вы – свободны!
Мы ждали слёз облегчения, восторженных возгласов, может быть, даже радостных объятий. Мы приготовились к благодарности, как к заслуженной награде.
Вместо этого нас встретила гробовая, давящая тишина. И сквозь неё, тихим, но твёрдым голосом, прозвучал вопрос самой рассудительной из них. В её глазах не было ни радости, ни надежды – лишь холодный, животный ужас.
– И… что мы будем делать?
Он повис в воздухе и ударил нас сокрушительной силой. Мы – стратеги, тактики, лучшие кадеты корпуса – не просчитали самый главный ход. Мы дарим свободу, не подумав, что это за дар такой – выбросить человека в чуждый, враждебный город, без крова, денег и защиты. Наша возвышенная идея в одно мгновение рассыпалась в прах, обнажив свою детскую, жестокую наивность.
– Давайте… мы ответим вам утром, – произнёс Дориан, и в его всегда твёрдом, командирском голосе я впервые услышал трещину, дрожь неуверенности.
Вернувшись в свою казарму, мы стояли в сгустившейся тьме, и стыд жёг нам щёки.
– Мы эту кашу заварили, мы и должны расхлёбывать, – глухо сказал Дориан. – Все идеи – на стол!
Идеи рождались, шипели и лопались, как мыльные пузыри. До самого рассвета. А наутро план был. Его принёс Лорик. Он объявил, что готов на величайшую жертву – отчислиться из корпуса. Добровольно. Стать предпринимателем. На наши деньги – вернее, на те жалкие гроши, что остались от нашего «благородного» жеста – открыть дело.
– Одежда, – коротко и ясно, как выстрел, объяснил он. – В этом городе никто не умеет шить хорошую одежду. Посмотрите, как мешковато сидят мундиры на офицерах, как безвкусно одеты жёны чиновников. Я открываю швейную мастерскую. А девушки… – он посмотрел на нас, и в его глазах горел огонь не авантюриста, а полководца, начинающего новую битву, – девушки будут моими первыми работницами. Я дам им не просто свободу. Я дам им ремесло. Кров. И защиту.
Это было безумием. Отчаянной, почти самоубийственной авантюрой. Но это был единственный шанс спасти не только их, но и наши собственные души от клейма красивых, но пустых жестов.
И каким-то чудом, силой одной лишь воли, упрямства и братской веры, этот сумасшедший план заработал. «Иголка» Лорика не просто открылась. Она уцелела. Она стала крошечным, но несгибаемым оплотом чести в городе, где честь была роскошью. И первое платье, сшитое в её стенах, стало для нас настоящей, выстраданной победой. Победой, которая стоила дороже всех красных дипломов на свете.
– О, Умар, здорово, что ты пришёл! – первыми словами Лорика, встретившего меня на пороге цеха, было искреннее, измождённое облегчение. Он пробирался между рядами, сгорбившись под горой рулонов с тканями, и лицо его было серым от усталости. – Зашиваюсь просто. Работаем по восемнадцать часов в сутки… только чтобы удержаться на плаву. Может, поможешь? – он кивнул на молчавшую, понурую машинку в углу. – У тебя же руки, я знаю, растут откуда надо. А мои пока не доходят. Надо починить… Зарина… – он произнёс это имя впервые, и оно прозвучало как-то особенно, – девушка, что на ней работает, прихворнула, но скоро должна выйти.
Как же кстати оказалось, что я был после стрельбищ, в промасленной, пропахшей порохом полевой форме. Не боясь испачкаться, я с наслаждением погрузился в знакомую возню с винтиками и рычажками. Через пятнадцать минут машинка уже весело и злобно стрекотала, вгрызаясь в ткань.