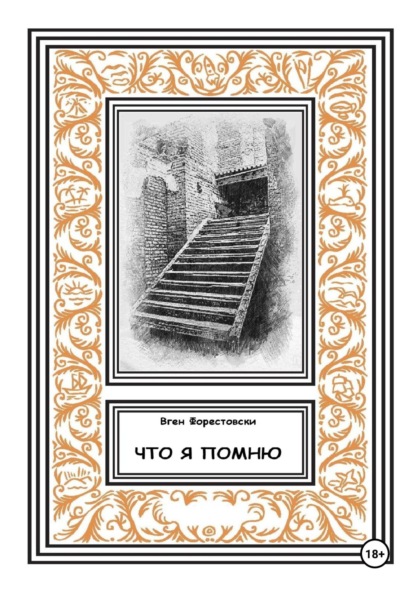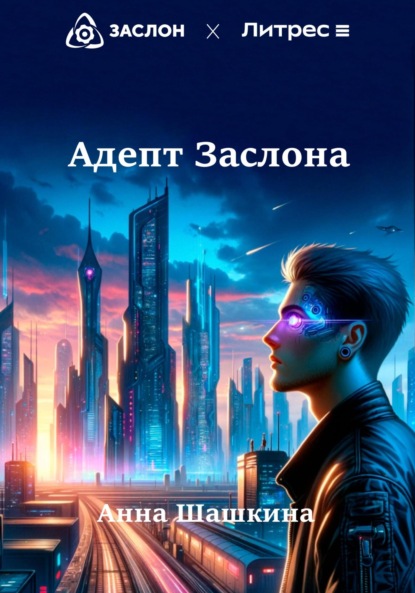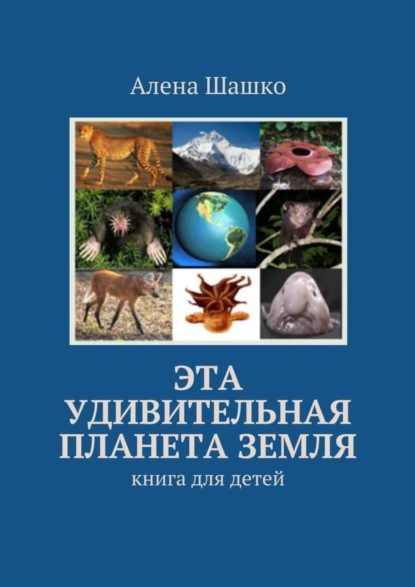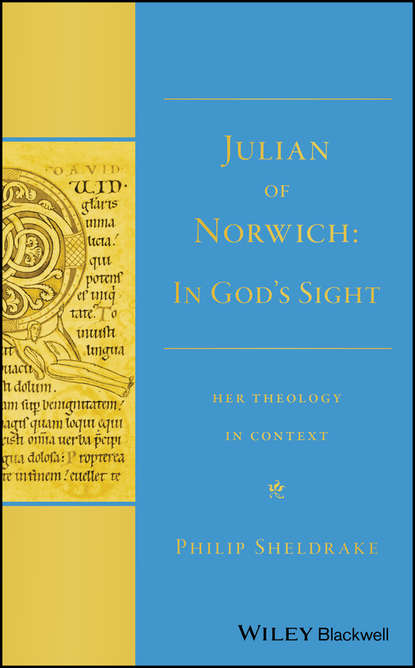- -
- 100%
- +
Обычно, в школьной тетради имелись разноцветные промокашки. По ним можно было судить о степени радuвости ученика. В идеале промокашка (мягкая бумажка по форме тетрадного листа с зубчиками по краям, напоминающая по фактуре туалетную, только потолще) должна быть абсолютно чистой, хотя её прямое предназначение – промакивание написанного, чтобы чернила не размазались, и не испачкали соседнюю страничку. Промокашка вкладывалась в тетрадь в единственном экземпляре, отдельно промокашки не продавали. На практике промокательная бумага обычно служила другим целям. На ней рисовали, на ней писали записочки, можно было оторвать кусок промокашки, пожевать его, смять в плотный комок и, пока учитель отвлёкся, запулить его в отвечающего у доски товарища. Промокашка идеально подходила для изготовления “боеприпасов” для бесшумной стрельбы из трубочек во время урока. Наконец, из неё получались отличные лёгкие самолётики. От наших родителей, чьё детство выпало на военные и послевоенные годы мы, школьники семидесятых, переняли умение делать из бумажных листков различные советские оригами. Мы складывали трёхмерные гармошки, несколько видов корабликов и самолётов, хлопушки, лягушки и другие полезные вещички, заменявшие нам современные китайские безделушки во время общения на переменах.
У старьевщиков (я застал и их!) на макулатуру или старое тряпьё можно было выменять яркий мячик–мандарин из папье–маше на резинке, поролоновый клоунский нос, керамическую свистульку, или ещё какую-нибудь детскую радость. Летом, и в тёплые осенние дни, на пустыре, недалеко от нашей школы несколько сезонов подряд стоял увешанный гирляндами из разноцветных лампочек раскрашенный во все цвета радуги старинный троллейбус, стилизованный под цирковой фургон. Внутри его переоборудованного салона располагался пункт приёма вторсырья. Нутро фургона было увешано разноцветными воздушными шариками, сладкими петушками на палочках, бумажными хлопушками и другими игрушками кустарного производства. Старьевщик с безразличным видом бросал принесённый ему хлам в угол фургона и выдавал свистульку или пару шариков в тальке, в зависимости от пожеланий малолетнего заказчика. При желании игрушку можно было просто купить, стоила она не дорого. Приходили к старьёвщику и взрослые. Они тоже несли с собой старую ненужную дребедень: радиоприёмники, мелкую деревянную рухлядь, бижутерию, одежду. Однажды я видел, как кто-то принёс и сдал атласную чёрную шляпу “шапокляк” с пружиной, видимо, начала прошлого века. Коротко поторговавшись, люди получали какую–то совсем небольшую денежную сумму, после чего удалялись без признаков радости от удачно проведённой сделки.
В те, уже очень далёкие времена, я не видел ни бомжей, ни алкашей, которым бы не хватало на сиюминутную выпивку. О том, кто такие наркоманы, обычные люди даже не догадывались. Деньжонки у народа, хоть и не великие, водились всегда. За двадцать килограммов сданной бумажной макулатуры можно было получить талон на приобретение дефицитных книг какого–нибудь плодовитого француза. Книги с диссидентским подтекстом либо не печатались вообще, либо издавались такими тиражами, что купить их было просто невозможно.
Пару раз на дни рождения мне дарили самиздатовские книги, отпечатанные на печатной машинке, вручную: булгаковского "Мастера" и "Лебедей" братьев Стругацких. Как я радовался этим подаркам! Постойте. Это было… В конце восьмидесятых…
Во времена российской империи образ горничной конца XIX века, ассоциировался с честностью скромностью и трудолюбием. Чтобы не навредить репутации людей, у которых она служит, домработница должна быть образцом целомудрия и чистоты. Классическая униформа горничных состояла из закрытого платья с длинными рукавами, белого фартука и белого воротничка. Поскольку девочек готовили к роли матери и хозяйки, именно этот консервативный стандарт был взят за основу при создании единой одежды для гимназисток в 1896 году. Позднее, эта же форма в неизменном виде была принята, как единая одежда для учениц советских школ. Все мои одноклассницы, без исключения, начиная с третьего класса, носили только такую. Строгое коричневое шерстяное платье, чёрный (повседневный) и белый (для торжественных случаев) фартуки, белый кружевной воротничок, белые манжеты, чёрные атласные, или белые шёлковые ленты в косах, обувь на низком каблуке. Сестра застала времена, когда с формой носили нарукавники, так, как ткань на локтях быстро истончалась. При мне такого уже почти не встречалось.
С течением времени, моды, и сексуальной революции 70-х, форменные юбки старшеклассниц становились всё короче и короче, а каблуки их туфель всё выше и выше, поэтому особо строгим советским завучам приходилось стоять у главного входа и измерять расстояние от верхней границы колена до края юбки учениц линейкой. По их мнению оно должно было быть не более восьми сантиметров. Так же нельзя было приходить в школу в обуви с каблуком высотой более четырёх сантиметров, носить капроновые чулки, распущенные волосы, иметь длинные ногти, и пользоваться косметикой. Нарушительниц не допускали до занятий, вызывали в школу родителей, в особо тяжёлых случаях грозили выгнать из комсомола. Настоящей отдушиной для девчонок были различные внешкольные мероприятия; субботники, демонстрации, походы на природу, или праздничные чаепития. Здесь можно было было одеться и накраситься так, как им хотелось.
Отдельная история с физкультурной формой. Я застал период, когда девочек обязывали ходить на занятия в обтягивающих купальниках, а мальчиков, практически, в нижнем белье. "Пусть думают, что мы – спортсмены", – шутили в раздевалке пацаны-третьеклашки, заправляя майки на лямках в чёрные сатиновые трусы, не забывая при этом карикатурно щуриться на один глаз, подражая голосу и манерам рецидивиста Доцента из кинофильма "Джентельмены удачи". Занимаясь в спортивном зале в полураздетом виде, девочки и мальчики стеснялись друг-друга. Ни для кого не секрет, что, многие физруки страдают латентной педофилией. Им, будто бы, доставляет удовольствие наблюдать за тем, как мальчишки и девчонки выполняют упражнения, типа "ножницы", кувырки, или дурацкие махи на четвереньках без трико. Я ненавидел уроки физкультуры, особенно в младших классах.
Советскую школьную форму на девочках сегодня можно увидеть разве что в день последнего звонка, когда ностальгирующие по собственной юности мамаши наряжают своих 17-летних дочерей в кружевные воротнички и белоснежные фартуки. Не хочу сказать ничего плохого, но выглядит всё это уже не так гармонично, как пол-века назад.
В начале семидесятых годов в СССР появилась школьная форма для мальчиков. Рассмотреть во всех подробностях её можно в советском детском художественном фильме “Приключения Электроника”. Сине-фиолетовая укороченная куртка из немнущейся ткани с эмблемой из кожзама на левом рукаве в виде раскрытой книжки и восходящего солнца. Одежда была крепкая и не побуждающая к её чинному ношению. Скорее, разработчики видели предназначение данного изделия для школьных потасовок и валяния на полу. Внешний вид учеников их заботил в последнюю очередь. Впрочем, в отличие от девочек, которым было категорически запрещено появляться на занятиях в альтернативной одежде, мальчикам не возбранялось носить цивильный костюм. В старших классах школьную форму носили, как правило, дети консервативных родителей, или мальчики из неблагополучных семей. Девчонки парней в такой одежде не воспринимали категорически. Посещение школы в джинсах приравнивалось чуть ли не к идеологической диверсии. Первые ковбойские штаны появились у меня в девятом классе. У спúкуля на рынке фирменные джинсы стоили примерно две сотни. Мамина знакомая, проживавшая в закрытом городке со спецобеспечением, достала две пары, кажется, по сорок пять. Ткань была качественная, импортная, правильно линяющая в процессе носки и стирки. Шили джинсы по лицензии, в городе Калинине (Твери). По-сути это была советская реплика классических “Levi’s-501”, зафигаченная на итальянском оборудовании из настоящего денима, только без использования оригинальных заклёпок, молний и пуговиц. Первым делом я отпорол позорную кожаную нашивку с надписью “Тверь” с заднего кармана. Затем, с помощью ниток мулинe вышил американский флаг, на котором вместо звёзд красовался большой серп и молот (на пятьдесят маленьких сeрпиков и мoлотиков не хватило терпения). Подумав, я сделал ещё вышивку на заднем кармане, которую тоже придумал сам: белую чайку, пролетающую сквозь спасательный круг на фоне адмиралтейского якоря, и“флажок” с надписью “Pravi's” вместо “Levi's”. Это был мой ироничный советский ответ загнивающей Америке и лично президенту Рональду Рейгану. Первые фирменные джинсы “Super perry's” мне раздобыл мой университетский приятель, Игорь Стороженко. Штаны прослужили всё студенчество, и даже дольше. В 90-е Сторожeна стал известным криминальным авторитетом, но после нескольких обвинений в организации заказных убийств он, попав в федеральный розыск, бесследно исчез. Парень был круглым отличником, мастером спорта по боксу и моим соседом по двору. Отчим Игоря служил в КГБ. Игорь не скрывал, что тоже метил туда, и к этому не было никаких препятствий. Не удивлюсь, если мой приятель работал, внедрённый в криминал под прикрытием, а теперь проживает где–нибудь за рубежом. Кто знает. Кто знает.
Я помню пожилых людей, носивших калоши поверх обуви в ненастную погоду, скорую–универсал на базе автомобиля ГАЗ-21, брезентовый цирк–шапито на площади Революции, билеты местных авиарейсов по 17 рублей, запонки и подтяжки для носков. Я лично знал старика, который работал извозчиком в дореволюционном Красноярске, при мне некоторые взрослые продолжали бриться опасными бритвами и пользовались одеколоном с устройством для ручного нагнетания воздуха. В детстве мы играли мячами из натуральной кожи на шнуровке, с резиновыми камерами внутри. Страшно подумать, при мне доживали свой век дети участников Бородинского сражения. Дед одного из мальчишек в нашем дворе, вполне ещё шустрый 104-х летний старичок по фамилии Шапошников, прогуливающийся с красной деревянной палочкой в начале семидесятых, родился в 1870-м году! По возрасту он вполне мог бы быть, например, сыном Александра Сергеевича Пушкина, поживи поэт подольше на этом свете. Мой родной дед застал живого Жоржа Дантеса. Вдумайтесь, не прадед, а дед!!! Мне может не поверить молодёжь, но ещё в моём детстве редкостью были застёжки–молнии. На мужских брюках их стали массово практиковать только в 70-х.
В парках по выходным играли духовые оркестры, а во дворах домов постройки тридцатых годов, были установлены летние лепные фонтанчики в виде фигурных чаш, или морских раковин. В скверах стояли статуи молодых строителей коммунизма самых разных профессий сталинской эпохи от балерин и физкультурников, до шахтёров и сталеваров в натуральную величину. Во многих дворах имелись двухэтажные деревянные голубятни. При моей жизни родились и умерли кассетные аудио и видеомагнитофоны, появились отечественные шариковые ручки и фломастеры, бытовые компьютеры, небьющиеся грампластинки, стереозвук, оптические диски, сотовые телефоны и рок–музыка. Три из одиннадцати денежных реформ проведённых в России за последние 500 лет, начиная от Елены Глинской, случились у меня на глазах, при мне рухнул Советский Союз.
Без радости вспоминаю унылые советские магазины. Полупустые прилавки, правда, при этом, в каждом гастрономе всегда имелось несколько видов натуральных соков в вертикальных стеклянных конусовидных колбах, на розлив. Продавщицы носили белые халаты с фартуками, на голове непременный высокий накрахмаленный колпак в форме цилиндра, иногда покрытый тюлем, или гипюром. Полиэтиленовые мешки появились гораздо позже, продукты, даже сливочное масло, паковали в бумажные пакеты, они были уже готовые, но если нужна была тара бóльшего размера, продавец ловко сворачивала кулёк из грубой бумаги. Каким–то неуловимым движением затыкался низ кулька, одна рука при этом без всяких гигиенических предрассудков молниеносно просовывалась внутрь.
Подсолнечное масло продавалось на розлив. С помощью воронки продавец наливала его в поданную покупателем бутылку, которая затыкалась пробкой из скомканной серой бумаги. За молоком и сметаной люди ходили с бидончиками. Некоторые даже с целлофановыми пакетами, которые были большой редкостью. Их мыли, за ними ухаживали, иногда их даже ремонтировали. Кстати, пиво на розлив отдельные категории советских граждан так же приобретали в собственные видавшие виды мятые целлофановые пакетики. Бывало, что уже после розлива в пакетике обнаруживалась небольшая течь, и покупатель был вынужден бежать с фонтанирующей тарой до места распития бегом. О существовании йогурта, пиццы и кетчупа жители глубинки даже не догадывались.
В восьмидесятых годах появились автобусы “ЛИАЗ". Огромные, с большими стёклами в сравнении с ходившими до этого “ПАЗиками”. Их сразу же стали называть "аквариумы". Обтекаемые троллейбусы шестидесятых годов марки “ЗиУ”, с раскаляющимися до красна спиральными зимними электрообогревателями лобовых стёкол в кабинах постепенно сменили угловатые “буханки”. Проезд в автобусе стоил шесть копеек, в троллейбусе – пять, а в трамвае и того меньше, всего “троячок”. Кондукторы в транспорте обычно отсутствовали, поэтому ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях бесплатно для детей и подростков было обычным делом. Взрослые всегда оплачивали проезд, поскольку цены за него были безоговорочно доступными. “Совесть – лучший контролёр” – слоган того времени, размещаемый в виде трафаретных надписей в салонах общественного транспорта. Даже при зарплате в 120 рублей это было совершенно не накладно. “На дорогу” (в среднем) тратилось около двух с половиной за весь месяц. При желании можно было купить проездной билет на автобус, или вообще на все виды городского общественного транспорта. Для студентов проездной стоил в буквальном смысле копейки. Кроме того существовала огромная масса льготников, освобождённых от оплаты проезда при наличии соответствующих удостоверений. Весь этот расклад омрачался банальной нехваткой автобусов, которые ходили без всякого графика, переполненные, плохо обогреваемые в зимнее время и не проветриваемые в летнюю жару. Сначала в каждом салоне находились две стационарные опломбированные кассы, куда пассажиры сами бросали монеты и, покрутив круглое колёсико сбоку, сами отматывали и отрывали билет. В конце семидесятых годов кассы убрали и весь общественный транспорт оснастили компостерами. Покупая “книжечку” из десяти или двадцати билетиков, честный по умолчанию пассажир сам должен был их закомпостировать во время проезда. Пойманного редкими контролёрами "зайца" штрафовали на один рубль и отпускали. Так продолжалось до начала девяностых годов.
Есть одно странное воспоминание, которое, как оказалось, не даёт покоя не мне одному. В 60-х годах у меня и многих моих сверстников имелись стеклянные шарики, диаметром около полутора сантиметров. Говорят, они были разного цвета, но я помню только тёмно–фиолетовые. При падении эти тяжёлые шарики не разбивались и не трескались, иногда от них откалывались небольшие кусочки, как от карамельки. Одним из главных достоинств шариков была загадка их происхождения. Я так и не докопался до истины, но абсолютно точно, эти шарики не продавались в магазинах, их можно было только найти, выменять, или получить в дар. Версия о том, что стеклянные шарики являлись полуфабрикатом для выработки стекловолокон различного назначения, меня не устроила. Уж больно те шарики были правильными и красивыми. Хотя, пожалуй, именно это объяснение ближе всего к правде. Пусть тайна происхождения и предназначения шариков, появившихся непонятно откуда, и пропавших неведомо куда, останется не раскрытой.
В детстве мне очень хотелось иметь игрушечный подъёмный кран за одиннадцать рублей, он несколько лет ждал своего покупателя в магазине “Северо-западный”. Этот кран был пределом моих мечтаний, пока я не вырос и он не перестал меня интересовать. Памятуя о своей детской мечте, я никогда не экономил на игрушках своим детям. Если вы не застали те времена, сообщаю, что практически все детские игрушки в СССР были отечественные, их производили строго в соответствии с имеющимися тогда ГОСТами, поэтому зачастую у разных детей были одинаковые куклы, машинки или конструкторы.
Заходя в интернет и просматривая картинки с советскими игрушками, я крайне редко встречаю незнакомые мне экземпляры. Причём некоторые игрушки производили без каких-либо изменений по 25-ть и более лет. Вплоть до 90-х годов бывали случаи, когда дети, в буквальном смысле, играли игрушками полностью идентичными детским игрушкам собственных родителей. Электронные игры отсутствовали, но при помощи пластилина, цветных карандашей, картона и красок можно было создавать мир, полный приключений, загадок, и сказочных существ.
За счёт подвижных игр на свежем воздухе, дети прошлых поколений были более спортивны. Санки и лыжи имелись в каждом доме, зимой они не простаивали без дела в углу, и не залёживались на балконе. Слава богу, в выходные мы не валялись сутками на диванах со смартфонами, не сидели долгими часами за мониторами компьютеров, телевизор нас тоже мало интересовал. Наспех сделав уроки, мы бежали на улицу, к друзьям. За летние каникулы кеды стирались в пыль. Шлёпнуться на асфальт во время дворовых игр и продырявить колено на новых штанах, или разодрать локоть у единственной куртки было обычным делом, поэтому заплаты, напоминающие творение доктора Франкенштейна на одежде у пацанов ни у кого не вызывали вопросов.
Советские артефакты
В Советском Союзе времён моего детства не было такого разнообразия товаров, как сейчас. Однако, если что–то делалось, то делалось на совесть. Долгое время вся обувь в СССР изготовлялась из натуральной телячьей кожи, шерстяные вещи были без химических примесей, мебель производилась не из спрессованных отходов, а из настоящего дерева, чугунная кухонная посуда служила не одному поколению, утюги, паяльники и дрели работали десятилетиями. Несмотря на некоторую внешнюю серость и убогость товаров, в них не закладывалось время на эксплуатацию. Вещи покупали дорого и не часто, поэтому служить они должны были долго. Примерно с середины семидесятых годов качество производимых отечественных товаров начало стремительно падать, поэтому советские граждане старались приобретать дефицитные импортные вещи. В основном это была продукция стран так называемого "соцлагеря".
Глядя на нынешнее изобилие, в голову приходят риторические вопросы: неужели наша экономика разорится, если панели для радиотехники производить не из крашеной пластмассы, а из полноценных алюминиевых сплавов? Или: какого чёрта в фонарях, люстрах и линзах для лазерной техники используется дешёвая пластмасса! Вам что, стекла жалко? Я не в том смысле, что раньше трава была зеленее, и солнце ярче. Во все времена существуют более и менее качественные вещи, просто в сегодняшнем мире потребления уже не так важно, сколько вам прослужит ваша покупка, как это было ещё несколько десятилетий назад, теперь считается, что у всего должен быть разумный, то есть не слишком большой срок годности. В интернете можно найти и посмотреть в реальном времени на лампочку, которая горит где–то в калифорнийской пожарной части с 1901-го года двадцать четыре часа в сутки и никогда не выключается. Почему мы все не пользуемся такими? На самом деле, всё очень просто.
Какой–то американец ещё в начале двадцатых годов прошлого века осознал, что чем усерднее учёные и изобретатели трудятся над продлением срока работы, к примеру, электрической лампочки, тем меньше прибыли идёт в карман её изготовителям и продавцам. В итоге картельного сговора лампочки стали производить более низкого качества, со сроком работы не более тысячи часов, вследствие чего была снижена их себестоимость и повышена отпускная цена. В 30-х годах, подобная история произошла с женскими нейлоновыми чулками, которые оказались чересчур прочными. Говорят, их можно было использовать даже для буксировки автомобилей. Химикам было дано указание ухудшить качество волокон, чтобы повысить спрос на товар. И пошло–поехало…
Когда-то в нашем доме активно использовался ламповый приёмник “Festival”, подаренный маме с папой отцовскими родителями к их свадьбе и современный по тем временам телевизор “Рубин–102”. На ткани передней панели “Фестиваля” чётко просматривалась овальная тень от широкополосника. В детстве она у меня ассоциировалась с лицом улыбающегося шкипера в берете, с круглым носом и бородой, как у сказочного Розенбoма из мультфильма "Заколдованный мальчик". Наш телевизор представлялся мне почти одушевлённой квадратной головой робота, каких я рисовал в детстве. В утренние часы из нашего приёмника звучали весёлые джинглы популярных юмористических радиопередач “Опять двадцать пять”, или “С добрым утром”. Ежедневно пели свои хиты Аида Ведищева, Вадим Мулерман, Эдита Пьеха, Марк Бернес, Владимир Макаров, Эдуард Хиль… Могу запросто напеть песни, которые слышал последний раз лет в 5-ть – 6-ть.
Передача “Опять двадцать пять” нравилась даже мне, четырёхлетнему пацану. Я прекрасно понимал юмор и смысл коротких интермедий, с удовольствием слушал смешные анекдоты и весёлую музыку. В семидесятых, купив новый транзисторный телевизор, папа отвёз ещё рабочий “Рубин” на моих санках туда, где его купили и разобрали на детали. Мне было жаль расставаться с нашим роботом. Громоздкий “Фестиваль” украли, когда родители увезли его на дачу. Почему у нас не получается серийное производство современных телевизоров, телефонов, или автомобилей? Не получается даже качественно скопировать чужое. Мне сейчас возразят, мол, "зато мы делаем ракеты, а так же в области балета…" К сожалению, и это всё в прошлом. У меня нет сложного ответа на вопрос, – “почему”, а простой ответ, думаю, многим не понравится.
Переезжая в новую квартиру, старую мебель с Куйбышева мы увезли на дачу, которая была продана в начале восьмидесятых и давно находится в чужой собственности. Несколько раз проезжая мимо Пугачёво, я видел вдалеке крышу нашего двухэтажного дома, прошло уже пол-века, а он всё ещё стоит, и даже не перекрашен. Трудно представить, что пригодные для использования вещи в дачном домике заменят на новые. Было бы очень интересно побывать там, увидеть знакомые предметы и вспомнить подробности семейного прошлого.
Наверняка там висит наша старинная люстра, и стоит добротный платяной шкаф, отделанный рельефным шпоном из ж/д вагонов первого класса николаевских времён. Возможно, уцелел круглый обеденный стол с массивными резными ножками, сделанный так же руками папиного отца. За этим столом в военные годы отец делал уроки, за ним собирались родственники, вели разговоры, пили чай из бабушкиного фарфора. Может быть, и наши железные кровати всё ещё скрипят время от времени под кем-то своими многострадальными пружинами....
Найти семейные реликвии у современных горожан почти невозможно, ведь, как правило, мы выкидываем их при приобретении новых вещей, от банальной нехватки жилого пространства, но, как хочется иногда вспомнить детство и ощутить запах давно забытой игрушки, открыть ящик, где много лет назад лежали детские секреты, покрутить ручки старенького дедовского радиоприёмника, или послушать уютное урчание папиного лампового магнитофона.
Штампованная жесть
Я помню события, про которые никогда никому не рассказывал, не расскажу и уж, тем более, о которых ни за что не напишу. Нередко воспитатели в детском саду оставляли детей одних, в связи с чем начинали происходить совершенно непотребные вещи. Дети были разные, но как ни крути, первые драки, матерные словечки, излишний интерес к интимным органам, бытовое воровство, это всё оттуда. По сути, детсад – первая в жизни школа выживания, вполне сравнимая по жёсткости с армейской. Именно самый физически крепкий и драчливый, а не самый умный и воспитанный будет задавать тон в коллективе. Воспитательницы вмешивались в детские разборки лишь в крайних случаях, пресекая насилие, совершаемое у них на глазах. Чтобы избегать неприятностей в садике необходимо было научиться хитрить. Личного пространства у ребёнка быть не должно, у него нет возможности уединиться даже в туалет, – горшки стоят у всех на виду,в дальнем углу помещения группы. Когда есть, спать, гулять, как одеваться, во что и с кем играть, решать так же не детям. За непослушание следует наказание, вид которого единолично определяет воспитательница, сообразно её представлениям о добре и зле. Главная задача воспитанника одна, – продержаться до прихода своих родителей и поскорее убыть домой.
За последние пол-века я ни разу не переступал порог бывшего дошкольного учреждения на улице Маерчакa, хотя проезжал в нескольких десятках метрах от него сотни, если не тысячи раз. Сейчас там, где я отбывал длинные скучные дни, находится магазин, но я во всех деталях помню внутренний интерьер огромного, на пять высоченных окон, помещения младшей группы. В голове до сих пор звучат голоса детей, которых я не слышал и не видел с весны 1968-го года! Кого–то из них и нет уже на этом свете, я не помню их имён, совершенно не помню лиц, но голоса всё–равно живут у меня в голове. И звучат.